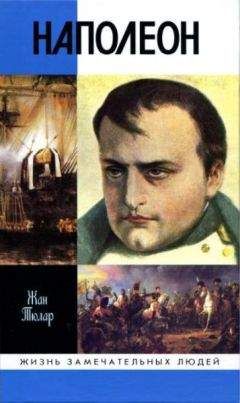Разумеется, «Мемуары» Бурьенна преисполнены недоброжелательности, однако все единодушно отмечают замешательство генерала.
Покинув собрание, Бонапарт обретает хладнокровие и решительно направляется в зал заседаний Совета пятисот, расположившегося в наспех приспособленной для этого оранжерее замка. Ведущиеся в нем дебаты приняли ожесточенный характер. Заговорщики составляют здесь меньшинство и вынуждены противостоять мощной оппозиции. Ставится под сомнение конституционность отставки Барраса. Вдруг речь оратора прерывает бряцание оружия. Входит Бонапарт.
Дальнейшие события получили самое разноречивое толкование. Стоило появиться Бонапарту, как депутаты забросали его вопросами, окружили, затолкали. Раздались возгласы: «Диктатора — вне закона! Да здравствует Республика и Конституция III года! Умрем на своем посту!» Дестрему приписывают брошенную кем-то знаменитую реплику: «Генерал, неужели ради этого ты одерживал свои победы?»
Председательствующий на заседании Люсьен Бонапарт никак не может восстановить тишину. Часть солдат из свиты Бонапарта с трудом отбивает своего командира и помогает ему покинуть зал. Генерал задыхается, он бледен, лицо слегка окровавлено.
Партия проиграна. Похоже, что Бонапарт упустил свой шанс. Произошло то, чего опасался Сиейес: депутаты потребовали смещения генерала. Бертран, депутат от Кальвадоса, настаивает на том, чтобы с Бонапарта сняли обязанности командира гренадеров парламентской гвардии. Тало предлагает Совету возвратиться в Париж, как вдруг раздается чей-то вопль: «Голосуем резолюцию об объявлении генерала Бонапарта вне закона!» Страшная угроза. Правда, для приведения ее в исполнение требуется согласие Совета старейшин, однако в атмосфере всеобщего ажиотажа все как-то запамятовали об этой конституционной формальности. Стоит лишь какому-нибудь энергичному генералу, как это сделал Баррас во время Термидора, возглавить армию, и он провалит заговор. Люсьен понимает это. После безуспешных попыток оправдать брата он, чтобы выиграть время, слагает с себя обязанности председательствующего и покидает впавшее в прострацию собрание. Выйдя из дворца, он вскакивает на лошадь и обращается с импровизированной речью к караулу: «Как председатель, я ставлю вас в известность о том, что подавляющее большинство членов Совета в настоящий момент терроризируется вооруженной стилетами горсткой представителей, которые осаждают трибуну, угрожают смертью своим коллегам и проводят самые чудовищные решения… Это — бандиты, действующие уже не именем народа, а именем кинжала». Тут Люсьен продемонстрировал, должно быть, окровавленное лицо своего брата. Так родилась легенда о кинжалах. Затем, велев подать себе шпагу, он несколько театрально, зато весьма эффектно клянется пронзить ею собственного брата, если тот станет тираном.
Солдаты парламентской гвардии дрогнули, почувствовав за спиной гнев и нетерпение войск Бонапарта. Грянули барабаны. Мюрат во главе гренадеров бросился к оранжерее. К нему присоединился Леклерк. «Вышвырните-ка мне всю эту компанию вон!» — приказал Мюрат. Под барабанную дробь зал заседаний Совета пятисот был очищен в пять минут. О парламентских маневрах больше не могло быть и речи. План Сиейеса провалился. Выход на сцену армии изменил ход операции, задуманной бывшим аббатом, который проиграл в этом деле больше других. Чтобы хоть как-то выправить положение, надо было срочно изловить в этой сутолоке хотя бы нескольких старейшин и членов Совета пятисот, которых удастся разыскать в парке Сен-Клу и убедить в необходимости продолжить заседание. Это импровизированное собрание принимает акт об отставке исполнительной власти и заменяет Директорию консульским триумвиратом, состоящим из Бонапарта, Сиейеса и Роже Дюко. Заседания законодательного корпуса откладываются на неопределенное время. Назначаются две комиссии, которым поручается в шестинедельный срок подготовить проект новой Конституции. Наконец шестьдесят один депутат (из числа якобинцев) выводится из состава национального представительства. В одиннадцать часов вечера оправившийся Бонапарт, который взял на себя роль вдохновителя заговора, подписывает прокламацию, где излагает свою версию государственного переворота, не забыв упомянуть о покушении на убийство, жертвой которого он едва не стал на заседании Совета пятисот. Его спасло лишь вмешательство гренадер из гвардии законодательного корпуса: «Оробевшие заговорщики отступают и рассеиваются. Депутаты, освободившиеся от их навязчивой опеки, мирно возвращаются в зал заседаний. Им предлагается обеспечить общественное согласие. Они дебатируют и составляют спасительную резолюцию, которой предстоит стать новым временным сводом законов Республики».
Париж безмолвствует. Похоже, что после Жерминаля и Прериаля в обезоруженной столице иссяк заряд революционной бодрости. Дух критицизма сломлен: парижане меланхолично принимают навязываемый им сценарий. Лишь провинция проявляет нечто похожее на недовольство. В департаментах местные органы власти, контролируемые якобинцами, пытаются организовать сопротивление. Тщетно. Общество слишком устало, чтобы ввязываться в очередную гражданскую войну.
«Один из самых дилетантски спланированных и бездарно совершенных переворотов, какой только можно себе вообразить, удавшийся лишь благодаря мощи приведших к нему причин: состоянию общественного мнения и настроениям в армии, причем первая причина явно превалирует над второй» — таким виделось Токвилю 28 брюмера.
В Париже, в Люксембургском дворце, три новых консула временно занимают место бывших директоров. Под чьим председательством? Рассказывают, будто Роже Дюко обратился к Бонапарту со словами: «А нужно ли вотировать вопрос о председателе? Эта должность по праву принадлежит вам». Заговор Брюмера подменил если не цель, то главаря.
В обстановке неоякобинских выпадов и роялистских угроз термидорианцам кажется, что этот новый государственный переворот продлит их пребывание у власти. Со времени падения Робеспьера им явно недоставало авторитета, генерал Бонапарт одарил их популярностью. Он был человеком, подписавшим Кампоформийский мир. Что же касается авторитета, то им предстояло завоевать его благодаря пересмотру распропагандированной Сиейесом Конституции.
Жак Бэнвиль прав, отмечая, что Брюмер мало чем отличался от заурядного государственного переворота. Современники восприняли его как победу политической фракции, правившей Францией на протяжении последних нескольких лет. Он почти не породил вопросов, не говоря уже об энтузиазме. Считалось, что он не посягнет на защищаемые идеологами завоевания Революции, а тем более — на интересы новой буржуазии, прибравшей к рукам национальное имущество. Тем не менее вечером 20 брюмера, когда стало известно о приостановлении деятельности парламента, Бенжамен Констан предупреждал Сиейеса: «Это решение кажется мне чудовищным, снимающим последние препоны для человека, которого вы привлекли к участию во вчерашних событиях, но который не перестал быть менее опасным для Республики. Его воззвания, где он говорит только о себе, утверждая, что его возвращение вселяет надежду на прекращение несчастий Франции, окончательно убедили меня, что все его инициативы — лишь средство для самовозвеличения. А ведь в его распоряжении генералы, солдаты, светская чернь, — словом, все, что готово безоглядно ввериться грубой силе. На стороне Республики — вы, и, Бог свидетель, это немало, а также представительная власть, которая, какой бы она ни была, всегда может воздвигнуть преграду перед честолюбцем».