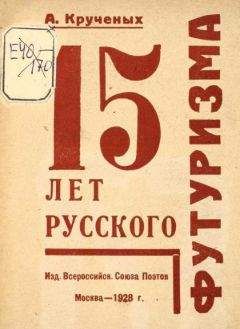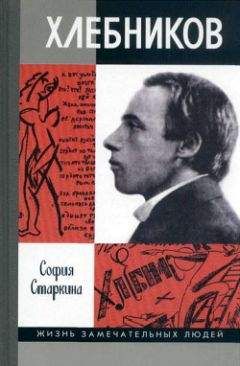Мать произвела меня на свет 5 сентября старого стиля 1906 или 1907 года. Точная дата года неизвестна, так как устанавливалась в зависимости от срока воинской повинности.
Потом я рос. В 1914 году поступил в гимназию, которую не окончил в 1921 году. С 1921 университет до 1923 года… Октябрьской революции я не помню. Мне было слишком мало лет для участия и наблюдения. Однако конец 1917 года был для меня датой первого моего литературного выступления.
Керенщина продолжалась в Одессе дольше, нежели в других центрах. На стене III класса одесской 2-ой гимназии, где я учился, до знаменитых дней крейсера «Алмаза» висел портрет Николая. На «пустом» уроке однажды я прочел свое стихотворение нашему классу. Конец его у меня сохранился.
Наступает нам черед
рваться бомбами по всем
Искомзап и Румчерод,
Искомюз и Искомсев,
Черноморской волевод
шлет декреты Циксород,
и звенит из воли волн —
«Со стены Николку вон».
Соученики, большей частью чиновничьи сынки, за этот стих меня побили. Классный надзиратель, чудесный человек (лет через пять я его встретил в красноармейской форме), оставил класс без обеда и, прочтя мое творение, ласково сказал:
— «Ишь ты, футурист!»
С тех пор это прозвище осталось за мной. Но охота заниматься поэзией у меня пропала надолго. Следующее, уже сознательное футуристическое стихотворение, я написал в 1920 году, когда Одессу окончательно заняли красные.
Одесса в те времена была очень литературным городом. Писателей насчитывалось штук 500.
Тринадцатилетний, я пришел в «Коллектив поэтов», ошарашил заумью и через короткое время нашел соратников.
Первомайские празднества в 1921 году обслуживались левыми, объединившимися в «Коллективе». Тогда в первый раз я выступал с автомобиля перед одесскими рабочими с чтением стихов Маяковского, Асеева, Каменского, Третьякова и Кирсанова.
Засим большинство разъехалось, я остался единицей.
Мне приходилось представлять все левое в Одессе. Трудности колоссальные.
С одной стороны, «Русское товарищество писателей», с другой — мама и папа не признавали футуризм.
Тем не менее люди были найдены, и в 1922 г. была организована, по примеру «МАФ» — Одесская ассоциация футуристов — «ОАФ».
Нас было мало, и вся работа была лабораторной. Было несколько публичных выступлений.
Через год я случайно узнал, что существует помимо нас еще одна левая группировка. Обе группы были слиты — и возник «Одесский Леф». Политпросвет предоставил разрушенный дом, и мы, человек 50 футуристов — поэтов, актеров, художников и джаз бандитов, — собственными руками отстроили его, постлали крышу и открыли театр. Одновременно шло завоевание прессы. Напечатала воззвание «За театральный Октябрь» и статью «Что такое Леф».
Впервые приехал в Одессу Маяковский, уяснивший нам настоящие задачи левого фронта. Но потом нас тоже уничтожили. Театр был передан коллективу «Массодрам» (нечто вроде Московского Камерного), и все разбрелись.
Опять я остался в единственном числе. Тем временем «Южное товарищество» продолжало цвести, родилась новая группа quasi-пролетписателей «Весенние потоки», после переименовавшая себя в «Потоки Октября». Одно название свидетельствует о бездарности и безвкусии этих писателей. Нужно было бороться, а людей не было.
Приехал из Москвы Л. Недоля, он, я и еще несколько товарищей сделали Юголеф.
Первая большая практическая работа была сделана 1 мая. Нам было предоставлено агитпропом несколько грузовиков, с которых мы выступали, агитируя за новое, в том числе и за искусство — за Леф.
Всего за один день было свыше 80 выступлений. Было обслужено тысяч пятьдесят человек. На мою долю пало тридцать выступлений, т. е. за восемь часов мною было прочитано шестьдесят стихотворений. Чем не рекорд?
Ни одни революционный праздник не обходился без нашего участия.
Поле действий ширилось, ширилась и организация. Одного лефовского клуба стало недостаточно, открыли второй клуб. Число членов Юголефа перевалило за пятьсот.
В январе 1926 года я уехал в Москву. Живу и радуюсь, что живу. Подробности в стихотворной автобиографии («Опыты»).
Декабрь 1027 г.
С. Третьяков. Шарж Марии Синяковой
Первый язык, которым владею — латышский.
Вместо «сперва», я говорю «папрежде», ибо по-латышски «сперва» — паприэкш. Вместо «просто так» — «так само», точный перевод латышского «та пат».
Первые игры — игра в дом с приготовлением еды из песка и несъедобных ягод на тарелках кленовых листьев — (бытовое начало). Игра в разбойники. Убивают щепкой, засовываемой за пояс; ограбив, совершают похоронный обряд — (начало мелодрамы).
Зимой в комнате ходил с корзиной и собирал под стульями «мысленные грибы». Ищут их так. Протягивают щепотку к ножке стула, затем прикладывают к губам, делают губы рюмочкой (ненавидел эти губы рюмочкой) причавкивают и проглатывают.
Однажды, устав от игры, увидел что грибы на полу никак вырости не могут, их нет и не будет — иллюзия лопнула и я, с омерзением выбросив корзину, нигилизировал спутников по игре, сестер. Сестры обиделись, но перешли в соседнюю комнату и продолжали искать грибы и ягоды. (Начало боя против гипно-наркотического влияния иллюзорного искусства. Здесь — начало Лефа. Здесь же источник агит-интересов). Сестры в будущем метили в актрисы, а я актерскую богему ненавижу; — в этой ненависти случай с грибами один из определяющих.
Первые, кто их знает откуда свалившиеся в ухо стихи, — заумные, русско-латышские:
Люра — плюра.
Будель — пудель.
Причем первая строка ощущалась как стыдно-неприличная, (может быть работает фонетика слова — плюю), вторая, как солидная и благовоспитанная.
Четыре года от роду было мне когда я провожал по улицам городка Гольдингепа (Кулдига) в Курляндии, перевозимый столб для гигантских шагов и слушал как дворник Петр кричал:
Пнэтур! Пиэтур! Пагайд бишкппь!
Что значило — «попридержи, попридержи, погоди немного».
Строку эту запомнил и повторял за ритмофонетическую импозантность.
Ходил в церковь и быстро заучил всю церковную службу.
Она состояла из непонятностей, например — …«Пристухом прароди».
Через три года только понял я, что это значит: …«христу-богу предадим».
В «Богородице — дево радуйся» было непонятно «платчерева твоего» — что-то вроде «падчерицы».