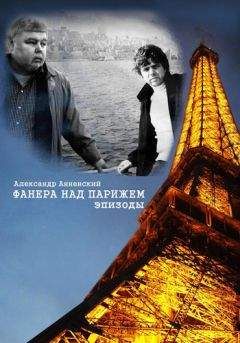Много десятилетий спустя, совсем уже недавно, в период моей работы в телекомпании «Останкино», в мой маленький кабинетик на третьем этаже Телецентра пришла наша же киногруппа, работающая над популярным циклом об ушедших людях искусства для Первого канала. Часа полтора, пересаженный из кресла за столом на стул на фоне светлой стены, я добросовестно вспоминал еще одного своего сокурсника, волею судеб ставшего, безусловно, наиболее известным из всей нашей мастерской и успевшем до своего раннего ухода из жизни получить вместе с всесоюзной популярностью еще и несколько государственных премий. Я старался говорить честно о том, что запомнил за годы нашего общения, подчеркивая, что по ряду причин не относился к его самым близким друзьям на курсе; впрочем, и в ином случае не стал бы рассказывать больше, чем следует. Мне всегда казалось, что нет ничего хуже посмертных сплетен об известных людях, даже основанных на абсолютно достоверных фактах. Каждый имеет право на выбор своего пути и, если это не слишком ущемляет других, судить его позволительно только по результатам.
– Ну, вы можете, по крайней мере, сказать на камеру, что это была фигура, во многом равная Шукшину? – попросила редакторша, похоже, заранее уверенная в моем ответе. Логика была несложной, подтвердив исключительность личности, с которой запросто общался, я как бы ненавязчиво обращал внимание будущих зрителей и на собственную значимость. Не оправдал я ее ожиданий, лишь рассмеялся.
– Ну, что вы. это абсолютно разновеликие фигуры… Хотя один подобный человек, кстати, действительно был у нас на курсе, – попытался я объяснить, – настоящий талант, что называется, от земли, только звали его совсем по-другому – Володя Лобанов. Вот он, по-моему, и был у нас самым способным, только судьба сложилась у него иначе, чем у Валеры.
– Лобанов?.. – протянула редакторша, давая знак оператору выключить камеру. – Нет, не знаю… Впрочем, в любом случае, вы же понимаете, это не совсем по теме нашего кино…
Я понимал.
Наша мастерская уже ко второму году сама по себе несколько расползлась на группки, цементируемые, пожалуй, двумя обстоятельствами – сходным предыдущим «доинститутским» житейским опытом и местом нынешнего проживания. Конечно, это было абсолютно условное деление, во многом объясняющееся просто временем, проводимым вместе – либо в институтском общежитии, либо по дороге через город домой. То, что в маленьком творческом коллектив амбициозных молодых людей, каждый из которых искренне был в глубине души уверен в своих особых способностях, гарантирующих ему в будущем профессиональную востребованность, отношения и не могли оставаться простыми, сейчас-то кажется очевидным – иначе и быть не могло. Ведь процесс занятий по мастерству, помимо многого другого, строился как последовательное выполнение разнообразных творческих заданий – от немых этюдов до полноценных сценариев, – и их последующего еженедельного подробного обсуждения, критики на курсе. Конечно, каждому, прежде всего, была важна оценка мастера, всегда подводящего итог общему разговору, но не менее ревниво все относились и к замечаниями, высказанным сокурсниками. Не все из нас, конечно, были готовы сдерживать рвущиеся наружу эмоции. И часто просто не слишком вежливые слова, сказанные о дорогой тебе работе, могли надолго развести тех, кто только что входил в аудиторию друзьями.
Между прочим, это касалось в известной же степени и отношений с педагогами, кроме самого Мастера, которому прощалось практически все. Прямые идеологические наскоки недалекого комиссара мы быстро научились попускать мимо ушей – смешно было бы обижаться на обиженных коммунистическим Богом, но когда абсолютно безапелляционные суждения позволила себе явно неглупая аспирантка по фамилии Михальченко, то жестоко поплатилась.
– Я считаю ваше творчество бесперспективным, – резанула она как-то прямо в глаза на одном из обсуждений нашему Теду – Давиду Макарову, бывшему штурману из Одессы.
– Да меня мало колышет ваше мнение. – сказал Тед, не поднимаясь со своего места, и демонстративно начал что-то обсуждать с соседом.
Дама эта, несмотря на то, что пригласил ее сам Маневич (она, кажется, должна была у него защищаться), быстро стала пугалом в наших глазах, получила кличку героини как раз показанного на очередном просмотре фильма Хичхока – Ребекка и подверглась настолько явному презрению всего курса, что Иосифу Михайловичу, видимо, пришлось посоветовать ей больше слушать, чем говорить, а еще лучше – пореже появляться на наших занятиях. По-моему, кстати, она подвизается в институте до сих пор, пишет разработки о том, как стать сценаристом…
Володька Лобанов, житель дальней российской глубинки, с моей точки зрения, так же как Василий Макарович Шукшин, был рожден большим писателем. Бывает, что человек, выросший в далекой от искусства среде, неожиданно осознает собственное предназначение, чем глубоко поражает окружающих. С затруднениями формулирующий мысль на родном языке при наших коридорных спорах, всегда старающийся не стать объектом излишнего внимания, он, судя по зачитываемым ровным голосом работам, преображался, когда подходил к письменному столу. Писал просто и удивительно образно, лепил характеры героев, как Шукшин, казалось бы, всего лишь фиксируя отложившиеся в памяти наблюдения. Без намека на эмоции, он удивительно спокойно всегда относился к любым нашим резким суждениями, словно понимая, что не нам по большому счету судить им написанное. Одновременно открытый и замкнутый, он, конечно, тоже жил в общежитии, жил бедно, и видимо, ему не всегда хватало силы воли, чтобы противостоять традиционным предложениям обитающих там же сокурсников. У меня, влюбленного в Шукшина, всегда возникало ощущение, что у нас на курсе он самый талантливый, и ему предстоит занять серьезное место, правда, скорее, в прозе, чем в кино. Судьба рассудила иначе.
Он действительно впоследствии напишет несколько хороших сценариев, после первого из которых его на очередной волне «заботы партии о кинематографической молодежи», вопреки существующим порядкам, по единственному фильму даже примут в Союз Кинематографистов. Кстати, пробил и поставил его сценарий о «реальной жизни» «Семейная мелодрама» режиссер Фрумин, очень скоро уехавший из страны. Володе в голову такая идея, разумеется, не приходила. Было еще несколько добротных картин, здорово растянувшихся по времен и, но не одна из них на самом деле не стала даже приближением к открытию. Трудно сказать почему; проза его существовала сама по себе, мало управляя изображением. Ему не везло и в личной жизни. Сегодня о нем как о литераторе, увы, почти никто не помнит.