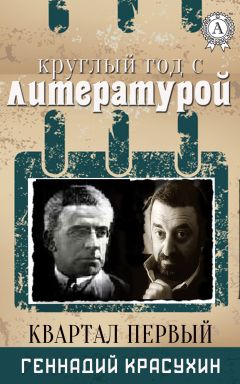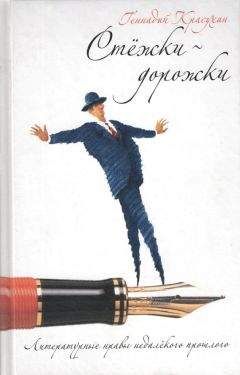В ту пору такое барство, конечно, вызывало осуждение у многих. Хотя, казалось бы, писатель, обладая к концу жизни достаточными средствами, имел право жить так, как ему хотелось. Но… В Москву улетело возмущённое письмо кого-то из горельских селян. А через некоторое время в «Комсомольской правде» появилась разгромная статья «За голубым забором», обличающая «зарвавшегося» писателя. Вирту вызвали в Москву в правление Союза писателей России, где посоветовали срочно покинуть горельскую усадьбу. Николаю Евгеньевичу ничего не оставалось делать, как подарить свой дом горельскому колхозу и уехать в столицу».
Было это уже после смерти Сталина. Когда разрешили критику его любимцев. А до этого Вирта сам обрушивался с зубодробительной критикой на своих и сталинских врагов. Например, на космополитов. Выражений он не выбирал: «мразь», «человечье отродье», «фашисты в белых халатах».
Вирта имел не только дом на Тамбовщине. В Подмосковье у него была дача в Переделкине. На ней он не только творил, но, как деликатно выразились тогда члены секретариата Союза писателей, вёл «разгульный образ жизни». Причём не один, а в компании с А.А. Суровым и А.Н. Волошиным. Понимаю, что о Сурове некоторые помнят ещё и сегодня: он яростно громил космополитов, которых вверг в рабство: они за него писали пьесы. А о Волошине – вряд ли. Был такой кузбасский писатель. Имел даже сталинскую премию за книгу «Земля кузнецкая». Так вот эту троицу за разгульный образ жизни на даче Вирты в 1954 году исключили из Союза писателей.
Восстановили потом? Конечно. Ведь пустячный же проступок – подумаешь, разврат! Вирте вернули членский билет СП уже через два года. Про Волошина ничего не знаю. А Сурову пришлось долго ждать восстановления. На его развратные действия наложилось ещё и обвинение в том, что он не писал пьес, за которые получал сталинские премии. Так что восстанавливать его в прежнем статусе драматурга никто не спешил. Но Суров соглашался восстановиться как публицист, имея в виду свои погромные статьи при Сталине. Стучался в дверь союза писателей он долго. И в конце концов ему открыл её в 1982 году ставший первым секретарём Московской писательской организации Феликс Кузнецов. Простили Сурову и разврат, и плагиат, и рабовладельчество.
А возвращаясь к Вирте, скажу, что о нём как близком Сталину человеке ходило немало легенд. Хотел рассказать историю с пьесой «Заговор обречённых», которую Вирта представил, как тогда полагалось, в Комитет по делам искусств, который должен был её либо одобрить, либо зарубить. Но вспомнил, что эта байка уже записана Бенедиктом Сарновым, который расскажет её лучше меня:
«Спустя некоторое время он [Вирта] пришёл к заместителю председателя Комитета – за ответом.
– Прочёл вашу пьесу, – сказал тот. – В целом впечатление благоприятное. Финал, конечно, никуда не годится. Тут надо будет вам ещё что-то поискать, додумать… Второй акт тоже придётся переписать. Да, ещё в третьем акте, в последней сцене… Ну это, впрочем, уже мелочи… Это мы уже решим, так сказать в рабочем порядке…
Вирта терпеливо слушал его, слушал. А потом вдруг возьми да и скажи:
– Жопа.
– Что? – не понял зампред.
– Я говорю, жопа, – повторил Вирта.
Зампред, как ошпаренный, выскочил из своего кабинета и кинулся к непосредственному своему начальнику – председателю Комитета, Михаилу Борисовичу Храпченко.
– Нет! Это невозможно! – задыхаясь от гнева и возмущения, заговорил он. – Что хотите со мной делайте, но с этими хулиганствующими писателями я больше объясняться не буду!
– А что случилось? – поинтересовался Храпченко.
– Да вот, пришёл сейчас ко мне Вирта. Я стал высказывать ему своё мнение о его пьесе. А он… Вы даже представить себе не можете, что он мне сказал!
– А что он вам сказал?
– Он сказал… Нет я даже повторить этого не могу!..
– Нет-нет, вы уж, пожалуйста, повторите.
Запинаясь, краснея и бледнея, зампред повторил злополучное слово, которым Вирта отреагировал на его редакторские замечания. При этом он, естественно, ожидал, что председатель Комитета разделит его гнев и возмущение. Но председатель на его сообщение отреагировал странно. Вместо того, чтобы возмутиться, он как-то потемнел лицом и, после паузы, задумчиво сказал:
– Он что-то знает…
Интуиция (а точнее – долгий опыт государственной работы) не подвела Михаила Борисовича. Он угадал: разговаривая с его заместителем, Вирта действительно знал, что его пьесу уже прочёл и одобрил Сталин».
Умер этот сталинский любимец 3 января 1976 года. (Родился 19 декабря 1906 года).
Вспоминаю, как нас, работников «Литературной газеты», вызвали в зал, где в президиуме уже сидели новый член политбюро Вадим Медведев, зам зава отдела культуры ЦК Владимир Егоров, мой некогда хороший знакомый Юрий Воронов, неизменно даривший свои стихотворные книжки, и поникший Александр Борисович Чаковский.
До работы в ЦК Владимир Константинович Егоров был ректором Литинститута. Сменивший его на этом посту Евгений Сидоров, когда впоследствии станет министром культуры России, пригласит его на работу в министерство, и Егоров в свою очередь сменит Сидорова на посту министра. Правда, проработает министром недолго – Путин назначит его ректором Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Но вернёмся в зал. Там на трибуне выступает Медведев. Он даёт Чаковскому такую характеристику, что, кажется, вот-вот огласит указ о награждении Александра Борисовича второй звездой героя соцтруда. Но по лицу Александра Борисовича струятся слёзы. Нет, звезды не будет. А будет последняя фраза Медведева: «И Центральный Комитет принял решение удовлетворить просьбу Александра Борисовича Чаковского об освобождении его от обязанностей главного редактора «Литературной газеты».
После этого Медведев перейдёт к рассказу о Воронове. Он не скажет о том, за что его в своё время сняли с поста главного редактора «Комсомолки». Говорили, что за то, что он напечатал статью весьма лояльного по отношению к властям, даже, можно сказать, сервильного Аркадия Сахнина о неком полярнике, человеке сложной, незаурядной судьбы, занявшемся со своим экипажем, ходившим на китов, незаконным бизнесом. Кого в ЦК могла разгневать такая статья, было неясно; да и должность, которую получил после «Комсомолки» Воронов, была всё-таки внушительной: ответственный секретарь «Правды». А вот то, что он на этом посту продержался очень недолго, то, что всесильный идеолог партии Суслов настоял на переводе Воронова спецкором «Правды» в Берлин, показало, что снят был редактор «Комсомольской правды» не только за Сахнина. Воронов был достаточно смел и независим. Напечатал, к примеру, совсем незадолго до снятия статью Евгения Богата о матери Марии: впервые в советской печати воспевался подвиг эмигрантки, участницы французского Сопротивления, прятавшей от гитлеровцев евреев и бежавших из плена советских солдат, оказавшейся в нацистском концлагере, где, обменявшись одеждой с больной девушкой, пошла вместо неё в газовую камеру. Скажут: ну и что в этом крамольного? Крамолой в то время было то, что воспевался подвиг эмигрантки, которая к тому же не приняла большевистский переворот, но боролась с большевиками в Гражданскую. Так что были основания у Суслова люто невзлюбить Воронова, всякий раз сопротивляться его переводу в Москву из Берлина. Только после смерти главного партийного идеолога Воронов оказался в Москве – сперва главным редактором «Знамени», потом в аппарате горбачёвского ЦК.