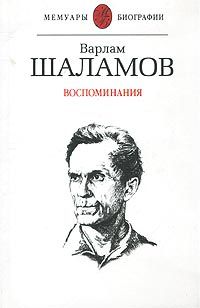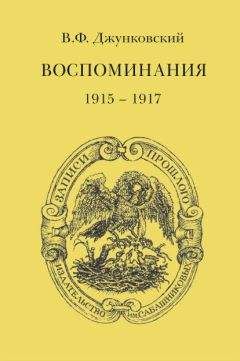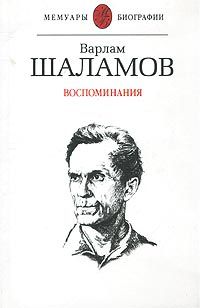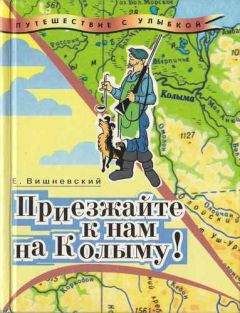Да еще и в «зависти» Шаламова упрекает этот олигарх от литературы! Нет, не тот строй душевный был у В. Т., чтобы унижаться до зависти. Презирать, ненавидеть — мог, завидовать — нет.
Ничего не имел при жизни Шаламов — ни признания, ни здоровья, ни семьи, ни друзей, ни денег…
Но был ему дан самый ценный дар — мощный талант, беспредельная преданность искусству и нравственная твердость.
И дружество и вражество,
Пока стихи со мной,
И нищенство и княжество
Ценю ценой одной.
Он «никого не предал, не забыл, не простил, на чужой крови не ловчил», он написал «Колымские рассказы», великую прозу XX века.
И. П. Сиротинская
— Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый,[76] — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчет [этого], поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмет ни одного переводного рассказа, где герой — атеист, или просто скептик, или сомневающийся.
— А Джефферсон, автор Декларации?
— Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько Ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, — мягко шелестел голос, — в Америку посылать этого не надо, но не только. Вот я хотел показать в «Новом мире» Ваши «Очерки преступного мира». Там сказано, что взрыв преступности был связан с разгромом кулачества у нас в стране — Александр Трифонович не любит слова «кулак». Поэтому я все, все, что напоминает о кулаках, вычеркнул из Ваших рукописей, Варлам Тихонович, для пользы дела.
Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы.
— Я даже удивлен, как это Вы… И не верить в Бога!
— У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.
— Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.
— Тем более.
— Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе.
Колыма была сталинским лагерем уничтожения, все ее особенности я испытал сам. Я никогда не мог представить, что может в двадцатом столетии [появиться] художник, который [может] собрать воспоминания в личных целях.
Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным?
Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына.
1963 г.
Записи в отдельных тетрадях
30 мая после получения письма[77] дал телеграмму и стал ждать 2-го в воскресенье приезда.
2 июня. Солженицын. Рассказ «Для пользы дела».
— Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано, как малодушие, приспособленчество.
Пьеса «Олень и Шалашовка» задержана по моей инициативе. Театр (Ефремов) настаивал, чтоб дал в театр читать, чтобы понемногу готовить, но я отказался наотрез. Я написал две пьесы («Олень и Шалашовка» и «Свеча на ветру»), роман, киносценарий «Восстание в лагере».[78]
Получил огромное количество писем. Написал пятьсот ответов. Вот два — одно какого-то вохровца, ругательное за «Ивана Денисовича», другое горячее, в защиту. Были письма от з/к, которые писали, что начальство лагеря не выдает «Роман-газету». Вмешательство через Верховный Суд. В Верховном Суде несколько месяцев назад я выступал. Это — единственное исключение (да еще вечер в рязанской школе в прошлом году). Верховный Суд включил меня в какое-то общество по наблюдению жизни в лагерях, но я отказался. Вторая пьеса («Свеча на ветру») будет читана в Малом театре.
А. Солженицын. 26 июля 1963 года. Приехал из Ленинграда, где месяц работал в архивах над новым своим романом. Сейчас — в Рязань, в велосипедную поездку (Ясная Поляна и дальше вдоль рек), вместе с Натальей Алексеевной.[79] Бодр, полон планов. «Работаю по двенадцать часов в день». «Для пользы дела» идет в седьмом номере «Нового мира». Были исправления незначительные, но неприятные. За границей об «Иване Денисовиче» писали много, английские статьи (до 40) читал со словарем. Разных позиций, самых разных. И то, что это «одна политика» (перевод «Ивана Денисовича» был посредственный, тональность исчезла), и то, что это «начало правды», большой творческий успех. Весь мир переводил, кроме ГДР, где Ульбрихт запретил публикацию.
«Новый мир». Твардовский расположен. Члены редакции остались к Солженицыну безразличны, как и писатели!
— Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой, четырех по существу лет (четыре года благополучной жизни).
Сообщил свою точку зрения на то, что писатель не должен слишком хорошо знать материал.
Разговор о Чехове.
Я: — Чехов всю жизнь хотел и не мог, не умел написать роман. «Скучная история», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека» — все это попытки написать роман. Это потому, что Чехов умел писать только не отрываясь, а безотрывно можно написать только рассказ, а не роман.
Солженицын: — Причина, мне кажется, лежит глубже. В Чехове не было устремления ввысь, что обязательно для романиста — Достоевский, Толстой.
Разговор о Чехове на этом кончился, и я только после вспомнил, что Боборыкин, Шеллер-Михайлов легко писали огромные романы без всякого взлета ввысь.
Солженицын: — Стихи, которые я привозил печатать («Невеселая повесть в стихах») — это доведенные до кондиции выборки из большой поэмы, там есть хорошие, как мне кажется, места.
Приглашал на сентябрь в Рязань для отдыха.
Фрагменты беловых записей
Символ «прогрессивного человечества» — внутрипарламентской оппозиции, которую хочет возглавить Солженицын — это трояк,[80] носитель той миссии в борьбе с советской властью. Если этот трояк и не приведет к немедленному восстанию на всей территории СССР, то дает ему право спрашивать:
— А почему у писателя Н. герой не верит в Бога? Я давал трояк, и вдруг…
Чем дешевле был «прием», тем больший он имел успех. Вот в чем трагедия нашей жизни. Это стремление к заурядности, как реакция на войну (все равно — выигранную или проигранную).