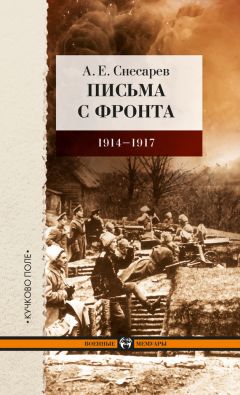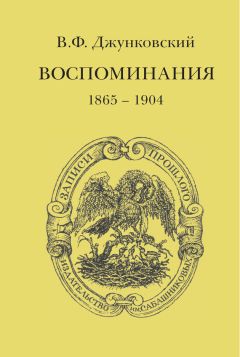Поэтому – ты, детка, постарайся вытянуть деньги по возможности скорее, так как позже, быть может, выйдут иные правила, или совсем прекратят выдачу… Теперь такое время, что перемен много, и наступают они неожиданно.
Вчера был в своем полку, ходил по грязи и воде, промок… приехавши, оттирал ноги и переобулся. Отделался насморком и кашлем. Вообще, эта гнилая зима приносит нам немало огорчений: в окопах вода, стены ползут, и что-либо поделать с этим очень трудно. Это я промокаю в третий раз; в первый раз – недели две тому назад – промок до пояса и избежал простуды чисто случайно. Ту зиму не пришлось переживать чего-либо такого.
Газеты начинаем получать, но в них веселого мало: у вас там что-то очень заполитиканили, и все, по-видимому, ломают голову, какая форма правления нам более кстати… Вовремя, только и можно сказать… […]
Жизнь моя теперь по-старому, работы у меня несколько прибавилось, но читать время нахожу. О посылках в полк пока не думай, потому что всё застревает в дороге и сюда доходит с большим трудом. Не достает мне вас четырех, а тебя в особенности… те-то под тобою, а ты одна… И так хочется тебя увидеть, обнять и поболтать. А тут еще эта монотонность, которая обещает протянуться еще 3–4 месяца… хуже всякой войны и боя.
Давай мордочку и глазки, а также малую троицу, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Обязательно впрыскивай себе мышьяк и пиши мне. А.
19 декабря 1915 г.Дорогая моя женушка!
Вчера получил от тебя две открытки и одно письмо… от 28 и 27 ноября и от 5 декабря. Это был большой для меня подарок после долгого поста. Из письма от 5.XII узнал, что у Кирилочки корь и что болезнь, по-видимому, находится в стадии заканчивания. Полагаю, это не опасно, лишь бы не застудить и не остались последствия.
У нас второй день морозец, после нескольких дней слякоти, и мы все вздохнули свободнее. Этой ночью был в окопах и поверял полевые караулы, т. е. части, расположенные близко к противнику. Очень жутко, когда прожектор противника улавливал нашу группу и задерживался на ней, как какое-то глазастое чудовище. Мы замирали на одном месте и старались не двигаться. Расчет такой: если фигуры стоят на месте, противник может подумать, что пред ним неодушевленные предметы: камни, пни и т. д., а двинулись, то значит, люди… и откроет огонь. Мы шли благополучно, если не считать отдельных пуль, посвистывавших в обычном порядке.
В эту же ночь мне пришлось наблюдать окопную жизнь ночью, и в ней много своеобразного, грустного и мрачно-красивого. Только ночью люди могут покидать окопы и походить около них или пойти вглубь. Видишь, ползут фигуры то с мешками хлеба для роты, то с досками, то идут отдельные посыльные… на темном фоне ночи они видны только вблизи – темные, то странно малые, то неестественно большие… Видны только вблизи, а издалека слышен их мерный шаг или тихий заглушенный говор. Идешь по окопу, ковыляясь по его изгибам, а в некоторых уголках, где приютилась халупа, мелькает ласковый огонек и слышны речь или тихое пение, скорее мурлыканье. Разговор, чаще всего, живой и веселый – человек рад теплому месту и отдыху, а песня всякая… какая придет в голову. А в воздухе неумолчно гудят одинокие выстрелы и жалобно свистит пуля, словно ей страшно хочется загубить жизнь человеческую, и она упорно ищет на пути своем человека… Ночь темная, но ее хмурый тон бороздят то осветительные ракеты, то лукавый и жадный сноп прожектора.
И думаешь, наблюдая жизнь, сколько этого пару и крепости в нашем солдате, который в этих погребах копается и живет по месяцам, нос к носу с неприятелем… и живет молодцом, полным надежд и розового благополучия. Послушать только его! О мире (о замиреньи, как он выражается) он говорит, но о каком мире? Не о скользком и унылом мире нашего интеллигента из растерявшихся или буржуя-обывателя… далеко нет. В «мире» нашего солдата все идет нам назад – вся Польша, да еще отдают всю Галицию, а кроме того, «наш Царь требует 20 миллиардов рублей денег, да чтобы каждому жить сам по себе… ни торговать, ни што-либо сообща». «А царь немецкий говорит, что больше 15 миллиардов дать не может, да штобы была торговля и все прочее по-старому…» Что-либо подобное я слышу почти каждый день в передаче Осипа. И мне думается, отчего это наши военные корреспонденты не поживут немного в окопах, чтобы понаблюдать их интересную жизнь и потом рассказать о ней людям. Обыкновенно они снимаются у пушек на «передовых» позициях, а такие пушки подчас стоят от окопов верстах в 3–4, особенно тяжелые, и на таких позициях нет даже артилл[ерийского] огня, а ружейная пуля не долетит сюда, если бы она и хотела. Когда офицеры получают эти отчаянные картины, то смеются много и на разные лады… И выходит, что корреспонденты могут воочию [видеть] только штабы, тыловую и обозную жизнь, т. е. то, что наименее интересно и наименее характеризует войну; а о последней им приходится получать данные из вторых рук, от тыловых господ или от раненых. Эта же категория людей сама или мало знает, или рисует боевую жизнь нервно и пристрастно. Все это очень грустно, потому что между корреспондентами есть немало талантливых и искренних людей, и они могли бы сказать свое хорошее слово.
Дочка наша растет молодцом и умницей. Ее фраза о глупости няниной – один восторг. Я прочитал ее товарищам, и мы очень много смеялись. Что это за должность папы в ополчении, каковы обязанности, и что он получает? Почему он оставил цензуру?
Почтарь ждет моего письма и говорит, что теперь все вошло в нормальные рамки. Сегодня же пошлю тебе с ним телеграмму. Думаю, что сегодня или завтра к тебе приедет Назаренко, и он тебе даст мои письма и расскажет про мое житье-бытье, что знает. В письмах я просил тебя впрыскивать себе мышьяк, а не принимать внутрь (это почти бесполезно). Чтобы усугубить мою просьбу, я передал еще ее устно Назаренко… интересно, как он справится с моим сложным поручением.
Об отметках Гени я так и не получил твоего письма… как-то ты черкнула, что он принес три двойки за первую четверть, а обещанных подробностей я и не получил… вероятно, еще плывут в пространстве… черкни как-нибудь.
Ты все меня, детка, стараешься успокоить, опираясь на свою поговорку… Я тебя понимаю, вполне разделяю твой взгляд и стараюсь не думать… стараюсь потому, что все это тянется свыше всяких сил и меры… И только моя гордость – мое постоянное несчастие в жизни, но и постоянная моя опора – делает меня бодрым и долготерпеливым. Сегодня или завтра вновь придут письма моей цыпки, и засияет мне солнышко. Давай, славная, твою головку и глазки, а также наших малых, я вас обниму, расцелую и благословлю.