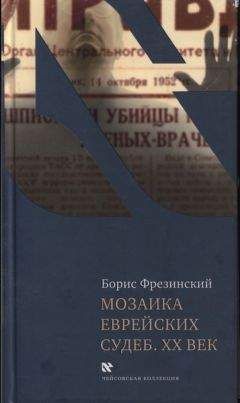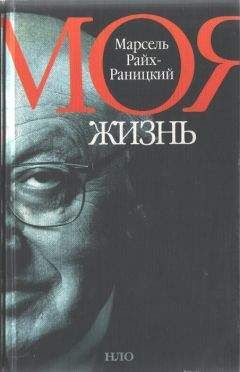Техническое качество его работ исключительно высоко — не один день я провел с ним в затемненной комнатке и видел, как он колдует, печатая снимки: ни одному профессионалу не достичь такого чуда в пересъемке (Мишины отпечатки подчас оказывались лучше оригиналов).
Советская литературная политика не соответствовала Мишиному вкусу — снимки из его собрания появлялись в советских изданиях крайне редко; спецслужбы интересовались его увлечением больше, чем литературные учреждения. Американского издания альбома цветаевских фотографий из своего собрания Миша, увы, не дождался (его авторство в этом издании обозначено литерами МБ; он был лично знаком с издателем К. Проффером и о подготовке альбома знал). Были у него и другие проекты, связанные с «тамиздатом»…
Люблю я вечер. После десяти
Ты можешь быть собою до рассвета.
Глазком зеленым угол освети
И только рукоятку покрути —
Как будто клетки вроде бы и нету.
Земля, остановись! Не наступай
Холодное погибельное утро!
Пей чай или коньяк, стихи кропай,
Остановив будильник, засыпай,
И если навсегда, то это — мудро.
Жить Мише оставалось совсем немного; теперь известно, что продержаться надо было ровно пять лет, и все начнет меняться. Но тогда мы слабо верили в возможность реальных перемен, казалось, что империя несокрушима, а жизнь Миши и внешними, и трагическими личными обстоятельствами была измотана до предела. 14 апреля 1980 года он покончил с собой…
Благодарная память о Мише жива среди его многочисленных друзей. Еще не изданы его стихи, но замечательное собрание фотографий уже обрело новую жизнь. Было в советские годы в ходу такое клише: «Коллекция служит людям» (применялось оно чаще всего к маразматическим ленинианам, но все же не только к ним). В данном случае это клише работает всерьез — в 1999 году Музей Ахматовой смог приобрести собрание М. А. Балцвиника (после его смерти оно находилась у К. М. Азадовского), и две с половиной тысячи фотографий, составивших потрясающую иконографическую летопись нашей литературы от Блока до Бродского и материализующих страсть души, дар собирателя и мастерство фотографа, — начинают новую жизнь, служа нашей культуре.
М. А. Балцвиник
Обложка книги М. Балцвиника (Санкт-Петербург, 2006)
Он дышал воздухом истории (А. И. Добкин)
Что негодовать на тупую жестокость толпы или власти, если жестокость Природы им не уступает. После тяжелой болезни молодым, не достигшим и пятидесяти, умер питерский историк и литератор Александр Иосифович Добкин, один из создателей и редакторов свободных исторических альманахов современной России.
Александр Иосифович, как и многие в его поколении, несмотря на отчетливые гуманитарные интересы, получил серьезное естественно-научное образование; однако главным в его жизни стала история. Основательные исторические публикации, составление и редактирование исторических сборников и книг — вот материальные следы его работы; следы духовные, может быть, еще весомее. Об объеме этой работы можно судить уже по перечню его псевдонимов, напечатанном в 25-м «Минувшем».
В забытых теперь условиях тоталитарного режима, вопреки очевидным и неминуемым опасностям, со своими товарищами и единомышленниками он подпольно готовил исторические сборники «Память», чтобы делом противостоять традиционной государственной политике исторической лжи. С 1978 года эти сборники начали выходить по-русски за рубежом, а затем, в 1986-м, породили альманах «Минувшее», который вскоре начал издаваться в Питере и стал широко известен знатокам и любителям исторических штудий.
Редактор и публикатор «Минувшего», томов «Невского архива» и сборников «In memoriam», Александр Иосифович меньше всего был ловцом сенсаций. «Чтобы адекватно воспринять былое, — писал он, — нужно подышать его воздухом: узнать жизнь незнаменитых людей, вникнуть в подробности их быта, переболеть иллюзиями и страстями ушедших поколений. Иначе самые блестящие обобщения обесцениваются, а раскрепощенность в анализе прошлого не дает желаемого результата». Это из его предисловия к воспоминаниям Н. П. Анциферова, тщательно им подготовленных и обстоятельно прокомментированных.
Эти же качества отличали его и как редактора; обаяние, интеллигентность и доброжелательность не мешали ему быть абсолютно твердым там, где речь шла о вещах принципиальных.
Это горькая потеря для нашей исторической литературы; про потерю друзей и близких так просто не скажешь.
С А. И. Добкиным я познакомился довольно поздно. В 1994 году мне позвонил незнакомый человек и, сославшись на знакомого мне московского историка и литератора Д. И. Зубарева, предложил сотрудничать в историческом альманахе «Минувшее». Это был А. И. Добкин. Альманах я знал, а его — нет. Так началось личное знакомство. Внешне, за вычетом подтянутости и роста, А.И. напоминал некоего классического предреволюционных лет интеллигентного столичного редактора-еврея; его поседевшие длинные волосы и большие усы тоже с сединой, его мягкая сдержанность мешали правильно определить возраст — он казался старше своих лет. Уже потом я имел возможность видеть, как его пылкость и нежность открыто проявлялись в отношениях с друзьями, но поначалу это никак не было мною в нем угадано (как и неофициальная и очень гостеприимная обстановка в редакции, открытая своим, — чаепития и проч.).
Летом 1996 года выяснилось, что у нас есть общий и давний знакомый, уже долгое время живший далеко от Питера; именно этот сюжет связал нас некими оставленными им поручениями безотносительно к делам историко-литературным. Попутно возобновились и литдела — я пообещал сделать для альманаха публикацию по итогам двухлетних киевских штудий. Вот с этой поры встречи и отношения с А. И. Добкиным приобрели характер не официальный, а личный. В 1997-м мы подружились, перешли на «ты», и хотя встречались не часто, но зато подолгу — в Питере у меня, и в Москве у Саши. Всё лето я неожиданно был прикован к дому костылями, и Саша меня несколько раз навещал — с неизменной снедью и последующими застольями. В Москве мы однажды оказались одновременно, и я был его гостем в квартире, где он останавливался и, к моему удивлению, весьма умело вел хозяйство — очень аппетитно тушил в лотке говядину с овощами. Каждое из этих многочасовых застолий с ним вдвоем я подробно помню.
Немало чего нас должно было объединять — хотя бы Ленинградский университет (он в свое время учился на химфаке, а я — на физфаке), отношение к советскому режиму, интерес к истории, политике и литературе, вообще — гуманитарные устремления (у него они очень быстро взяли верх над полученной специальностью, у меня долгие годы сочетались с нею). Меня удивило, что он принял православие — не только в душе, но и на церковном, обрядовом уровне, и однажды я прямо спросил его об этом: зачем? (Признаться, ни тогда, ни потом я не верил в церковную веру, если речь не шла о людях темных, больных и убитых страданиями и страхом смерти; для людей же образованных я понимаю естественное приятие моральных норм христианства, но не веры в «чудеса», включая воскрешение.) Его ответ был предельно искренним и к вере не относящимся, и я его принял: этот сюжет больше никогда не обсуждался.