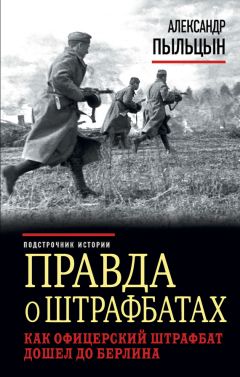На Одере все горело. И тот берег, куда уже, она знала, перебрался все же ее Саша, хотя так и не научился плавать, а с ним двенадцать бойцов - все, что осталось от роты, и этот, где вся земля на ее глазах покрывалась воронками от снарядов.
У самой воды она увидела Путрю, старика, которого так жалел - попал в батальон за провороненный ящик мыла - ее Саша, всегда оставляя в обозе. Путря плакал:
"Дочка, все: я видел сам, он упал в воду, его потащило за лодкой". Потащило за лодкой? Чего же он плачет? Это хоть какая-то надежда! И она стала ползти под градом непрекращающегося огня, от воронки к воронке и всех, кто попадался ей на пути, спрашивала: "Вы не видели красивого, высокого, с черными усами капитана?"
Она провела в этих воронках два дня и две ночи. Она могла бы двигаться быстрее, пули, разрывы ее уже не пугали, но в каждой воронке, увидев ее, стонали: "Сестричка, сестричка, перевяжи!"
И она перевязывала и ползла, и спрашивала, и наконец услышала: "Высокий, красивый, с черными усами? Увезли в медсанбат. Только вряд ли успеешь - он тяжело ранен в голову". И тогда она побежала, встав во весь рост, к машине, в которую собирали раненых.
И снова уцепилась за борт. Но в эту машину проситься она не могла. Раненые, истекая кровью, стояли даже на подножках, а сколько еще их, истекающих кровью, оставалось лежать на земле... Но идти пешком значило не успеть, и тогда она вцепилась в борт машины своими тонкими руками бывшей ученицы балетной студии, худенькими руками блокадной ленинградской девочки. Сильными руками любви.
И провисела так три длинных километра.
На этих руках она выносила для него с поля боя не только себя - их будущего сына, который уже несколько месяцев жил в ней, чтобы родиться вскоре после Победы и того дня, когда они расписались на рейхстаге "Александр и Маргарита Пыльцыны".
Она искала в медсанбате долго, потому что красивого, черноусого там не было. Если б она посмотрела на себя хотя бы в стекло, она б увидела, что и ее узнать невозможно: неожиданная седина неузнаваемо меняет даже двадцатилетних.
Она узнала его, забинтованного как мумия, по губам. Губы, его губы не ответили на ее поцелуй - он был без сознания.
Почти две недели провела она в госпитале. Они слились для нее в один длинный, изнурительный, без лиц, штрихов и деталей день. Но именно за эти две недели она получила свой орден Красной звезды. Запомнилось одно - как отдавала кому-то кровь. Прямое переливание. Только тут, на столе, она потеряла сознание.
А вечером в сознание пришел он. И совсем не удивился, что она рядом.
Я, наверное, и очнулся-то от того, что она склонилась надо мной и я почувствовал взгляд ее лучистых серых глаз под разлетевшимися на стороны круглыми дугами бровей. На ее больших ресницах дрожали, искрясь, капельки бриллиантовых слезинок. Ее ласковый взгляд был и радостным, и тревожным.
И, конечно, я не то чтобы уж вовсе не удивился, а подумал тогда: "А как же иначе!" Хотя еще не совсем понимал, где я и на сколько времени и верст отстоит эта наша встреча, этот госпиталь от того Одера, который стал могилой для большинства бойцов моей роты, так отчаянно хотевших выжить, чтобы в канун долгожданной Победы смыть с себя позорное пятно судимости и снова стать полноправными офицерами без клейма "штрафники". Да и чуть было эта река не стала и моей могилой.
Рассуждения о могилах долго не оставляли меня. Конечно, никому не хотелось после собственной гибели истлеть в чужой земле: ни холмика, ни кустика. Ни присесть родным, ни цветок положить, ни былинку выросшую потрогать. Это почти то же, что сгинуть в водной пучине чужой реки. А мне удалось избежать этого. Судьба. Счастье. Опять невероятное везение!
А тогда, узнав, как моя Рита оказалась здесь, тоже не очень сильно удивился, скорее, восхитился ее верностью и мужеством, проявленными ею в этой непростой ситуации.
Вот как писала об этом эпизоде ее войны газета "Известия" (17 января 1986 г.):
В те драматические часы, узнав о почти гибельном ранении любимого, женщина, которая была не просто Ритой, а сержантом, бросилась искать его на испещренном воронками берегу Одера, где все горело. Она провела дни и ночи в этих воронках. Могла бы двигаться быстрее, пули, разрывы ее уже не пугали, но в каждой воронке, увидев ее, стонали: "сестричка, перевяжи!" И она перевязывала и ползла... Обратите внимание: могла бы двигаться быстрее, если бы отмахнулась от чужой беды, чужой боли: не до вас, мол, я своего ищу! Нет, этого она не могла.
Через несколько дней я уже вставал, а Рита, включившаяся в бесконечный ритм работы госпиталя, теперь едва успевала подбегать ко мне.
Здесь, в госпитале меня поразил случай удивительной жизнеспособности одного солдата, раненного тоже в голову. Соседи по нарам, на которых почти вплотную были размещены раненые, обратили внимание на то, что этот солдат, не приходя в сознание, постоянно, в течение более суток, стучал пальцами одной руки по краю деревянной перекладинки нар, будто что-то хотел этим сказать. Один из раненых, видимо телеграфист, догадался, что тот перестукивает азбуку Морзе. И расшифровал этот перестук: он просит принять донесение. Тогда кто-то посоветовал: отстучи ему, что донесение принято, может успокоится. И тот "отстучал" по пальцам этого несчастного. И он действительно успокоился. А через
15 минут его сердце перестало биться. жил-то он все это время в госпитале со своей смертельной раной только ради выполнения солдатского долга. Выполнил - и умер. Какая потрясающая сила духа держала его на этом свете!
Спустя еще несколько дней я стал уговаривать Риту вернуться в батальон. Во-первых, чтобы ее не сочли за дезертира (ведь она точно убежала!), во-вторых, чтобы сообщить, где я, и передать так и не отправленное донесение с плацдарма, в-третьих - узнать, чем закончилось дело на так дорого доставшемся нам клочке земли за Одером, и в-четвертых - чтобы приехали за мной. Мне нужно успеть к взятию Берлина!
Как она добиралась до батальона и как снова оказалась в этом госпитале, не знаю, но мы тут же пошли к начальнику госпиталя просить о выписке.
Поскольку Рита уже была с ним хорошо знакома (он только на днях вручил ей орден Красной Звезды), она смело пошла к нему, захватив меня. Он неожиданно согласился, сказав, что такой медсестре он меня вполне доверяет.
На сборы - секунды! Мы вышли на залитый солнцем двор, где стояла какая-то вычурная четырехколесная пролетка на рессорах с впряженной в нее молодой гнедой лошадью. И мы, не теряя времени, получив у начпрода на двое суток хлеба и консервов, тронулись в путь.
Удивительно приятной была эта поездка. Я уже и не помнил, приходилось ли мне так вольготно передвигаться, да еще с таким очаровательным кучером!