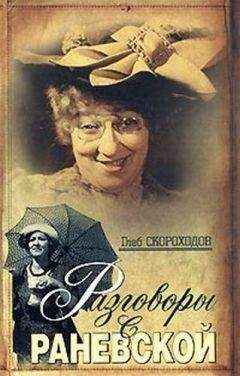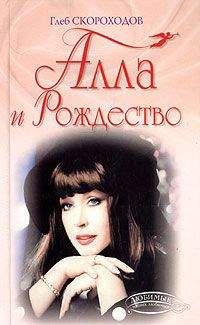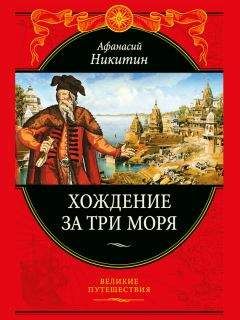. В этом фарсе моя героиня была дамой, абсолютно лишенной чувства юмора. Она считала себя очень знатной и, конечно, ни при каких обстоятельствах не желала уронить свое достоинство. Поэтому я искала ситуации, когда это достоинство подвергалось испытаниям. Я соорудила шляпу с огромными полями — из двух одну. Моя героиня открывала створку узких дверей кабинета врача и еще за порогом осведомлялась:
— К вам можно, доктор?
— Прошу вас, сударыня, — отвечал он.
Дама делала шаг и с ужасом чувствовала, что шляпа не пускает ее. Вторая попытка была столь же безуспешной.
— Прошу, прошу вас, сударыня, — торопил доктор, занимаясь чем-то своим, — я спешу!
Отчаявшись, дама пыталась пройти в дверь боком, но и это не приносило успеха. Публика заливалась смехом, а я была в гневе, но скрывала его — гнев тоже может уронить достоинство!
Чего мы только не выделывали в этом фарсе. Как был великолепен Ячменев — с грустными глазами задерганного человека, у которого слишком много пациентов, — в тот момент, когда он слушает одного, он уже думает о том, что его ждет другой.
Помню, после моей жалобы на состояние мужа Ячменев, видно так и не поняв, о чем идет речь, «привычно» произносил:
— Ну что же, давайте-ка выслушаем вас.
Моя дама удивлялась, но и тут не подавала виду. Доктор не мог найти стетоскоп — он «прослушивал» даму линейкой, каминными щипцами, наконец, самоварной крышкой, которая минуту назад заменяла ему карманные часы, — и все это «в образе» и абсолютно серьезно. И зритель верил в наших героев, несмотря на всю нелепость их поведения.
В санатории «Подмосковье» мы отметили день рождения Ф. Г. — 27 августа. Накрыли в ее номере (в санатории номера или палаты?) стол на четверых. В гостях была еще чета Сурковых: Евгений Данилович, главный редактор журнала «Искусство кино» и преподаватель ВГИКа (по ВГИКу я его и знал), и его супруга с удивительно доброй улыбкой.
— В Москве когда-то… Если я говорю «когда-то» — это значит до революции, — начала Ф. Г. — В Москве когда-то существовало типичное порождение хищнического общества грабежа и наживы (Евгений Данилович уже доволен — надеюсь, я выражаюсь острым языком его журнала?). Так вот, в Москве когда-то, где простые люди могли только мечтать о театре, а взбалмошные сыновья и дочери обеспеченных родителей, вроде меня, стремились зачем-то попасть на сцену — с жиру бесились, как сказал бы наш дворник, а у моего отца был даже собственный дворник, не только пароход. В этой самой Москве… Евгений Данилович, не наливайте мне больше: если я выпью еще хоть каплю за свое здоровье, я не смогу в рассказе сдвинуться с места, — попросила Ф. Г. и беспомощно склонила голову, вытянув над ней свои очень красивые руки, — как Плисецкая в «Умирающем лебеде», чем сорвала наш горячий аплодисмент. Затем быстро выпрямилась и остановила нас желтом. — А мне все же хотелось бы вас посвятить сегодня в святая святых своей актерской биографии — первого в жизни контракта, который я заключила когда-то в Москве…
На Большой Никитской, переименованной впоследствии неизвестно зачем и почему в улицу Герцена, человека уважаемого, но никогда там не жившего, на этой самой Никитской, Большой, подчеркиваю, ибо есть еще и Малая, вернее была — ее не так давно переименовали, присвоив имя тоже никогда на ней не жившего блистательного Василия Ивановича Качалова, — на Большой Никитской, в самом ее конце, буквально в двух шагах от Театра имени Маяковского, известного в то время, о котором я говорю, как оперетка Потопчиной, во дворе дома, куда можно попасть только через причудливую арку в мавританском стиле, находилось здание красного кирпича с резным подъездом и лесенкой — типичное «а-ля рюс», где размешалась знаменитая биржа Российского театрального общества,
Туда и пришла я, еще не сыгравшая в Малаховском дачном театре, первом в моей жизни, ни одной роли. Я только присматривалась к ним. Полная женщина, перед которой я стояла, спросила меня:
— В каком амплуа работаем, девочка?
Я молчала, потом тихо повторила то, что слыхала в Малаховке:
— Гранд-кокетт.
— Ну, не очень «гранд», но есть кое-что. На один сезон в самый тетральный город мира Керчь я вас беру, — сказала она и добавила грустно: — Девочки в моем театре без дела не остаются.
Мадам Лавровская, так звали мою хозяйку, владела небольшим, уютным театром, над сценой которого, во втором этаже слева, она жила, на сцене которого она и работала. Исполняла она роли по разряду «благородных матерей», впрочем, и «коварных соблазнительниц» тоже. Когда мы репетировали, днем, мадам обычно в своей квартире жарила рыбу—аромат ее наполнял всю сцену—и в открытые двери наблюдала за нами.
— Мадам Лавровская, ваш выход, — кричал ей суфлер, он же разводящий.
И чаше всего мы слышали в ответ:
— Пропустите меня — скумбрия не подрумянилась! Мне дали первую в жизни роль со словами — это была учительница, которая дает уроки сыну владельцев богатого дома. Я кинулась зубрить текст, но трагик остановил меня:
— Голубушка, кто же это делает в наше время? Не будьте провинциалкой — настоящий актер работает под суфлера. А мы с вами лучше отправимся на гору Митридад! Быть в Керчи и не побывать на Митридаде — простите, пошлость!
Я не хотела быть провинциалкой, хотела почувствовать себя актрисой, нагло отложила листки с ролью и пошла с трагиком на Митридад. До спектакля оставалось два часа.
Перед началом я надела свое лучшее зеленое платье. У меня, как я считала, были темно-каштановые волосы, завистники утверждали, что они рыжие, но все соглашались, что зеленое мне к лицу. В нем я вышла на сцену. И сразу все поплыло в глазах.
— Здравствуйте, — сказала я громко, но, кажется, не по тексту.
Все актеры улыбнулись, закивали головами, ожидая моей реплики.
— Добрый день, господа! — не растерялась я, не слыша ни слова из тех, что шипел суфлер.
— Добрый день, — отозвалось несколько голосов.
Суфлер уже надрывался, выкрикивая что-то почти в полный голос, но я не слышала его и решила поздороваться с каждым участником сцены в отдельности.
— Добрый день, — подходила я к актеру, протягивая ему руку.
— Добрый, — отвечал он с улыбкой.
— Что вы хотите сказать? — опередила меня мадам Лавровская, когда я подошла к ней. — Ведь вы, наверное, хотите увидеть нашего Мишеля, не так ли?
— Добрый день! — настаивала я на своем. И с этим ушла за кулисы.
— Какая странная учительница у вашего Мишеля! — услышала я реплику мадам мне в спину.
Публика ничего не поняла—а в зале и сидело-то человек двадцать, не больше, — актеры продолжали играть, поделив мой текст меж собой.