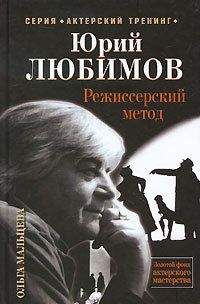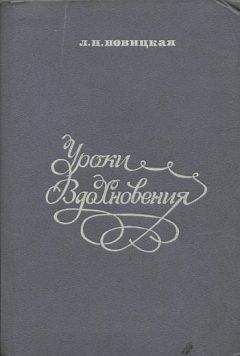Я продолжал засыпать над Инвенциями Баха, но кое-как учился. Родители «не приставали», за что я им был бесконечно благодарен. Они не мешали даже тогда, когда мои увлечения непосредственно касались их реноме. Так, в начале двадцатых годов я увлекся церковной службой. В шесть утра по заснеженной, пустынной Москве шел к маленькой церквушке, что стояла тогда рядом с Брянским вокзалом. Будил сторожа-пономаря, брал у него огромный ключ от колокольни, поднимался и ударял в большой колокол. На темных улицах, между огромными сугробами появлялись редкие черные фигуры, тянущиеся к церкви. А я звонил и звонил, стоя под огромным шатром колокола. Спустя 15–20 минут сходил вниз и читал по-старославянски «Часы». Читал, разумеется, скверно, но кто меня слушал? Пять-шесть глухих старух. Начиналась ранняя обедня. Свечи, лампады, иконы. «Пахнет» Мусоргским. Я надевал стихарь, носил огромную свечу и дымящееся кадило. Пользовался уважением у старух.
Отцу, учителю да еще заведующему «единой трудовой школой», конечно, это было «неудобно», да и начальство намекало… И все-таки вмешиваться в мои увлечения он не считал возможным. Однако стал давать мне немного денег на билеты в оперу. Всему свое время, скоро я научился пробираться в театр и сам. Тут сама собою и окончилась моя церковная «романтика».
В театре, на галерке было свое общество, вернее каста, и я был в нее принят. Люди разные по возрасту, днем чем-то занимавшиеся (это никого не интересовало), вечером сходились, пожимая руку капельдинеру, на верхотуру зала Экспериментального театра посмотреть, послушать, а главное, пообсуждать. Многое я там услышал об артистах, меньше о дирижерах и совсем ничего о режиссерах. Ничего!
А что об артистах? Это была странная, очень специфическая любовь к опере и артистам — смесь обожания с циничным презрением. Волновал не смысл образа, а то, что «Иван», «Сержик», «Ленька», наряженные в странный костюм, так или иначе спели, и за это им надо устроить «прием», превышающий тот, который устроили на прошлом спектакле «соперники» своему кумиру. В конечном счете это было не преклонение перед талантом, а подчинение его успеха себе, своей прихоти, владение его успехом и… бесцеремонное и властное влезание в его частную жизнь.
В то время главное обожание было направлено на Сергея Петровича Юдина, артиста обаятельного, заразительного, человека симпатичного. Но мало того, что аплодисментами встречался каждый его выход на сцену, что ему кричали: «Ю-ю-юдин!» и швыряли в него цветы, которые он, как жонглер, должен был ловить на лету, важно было после спектакля проводить его в Газетный переулок, где он жил. Шли за ним толпой, но «асы» ухитрялись вести его под руки. Напряженное лицо артиста вдруг озарялось приветливой улыбкой, он здоровался с одиноко стоящим на другой стороне улицы Андреем Павловичем Петровским — солидным режиссером, ставившим спектакли в Большом театре. Но остановиться нельзя, строгая стихия восторгов вела артиста к подъезду, на котором разными карандашами и почерками написано: «Юдин — душка!» Пусть «выкусят» поклонники «Лешки»! — так презрительно назывался тенор Александр Иванович Алексеев, успешно работавший тогда в Большом театре и, естественно, имевший свою группу почитателей. К искусству оперы это не имело отношения, это был психический «выверт», который постепенно отмер.
Для меня и эта страница быстро перевернулась. Она принесла свою пользу. Я выучил все из того, что пелось, игралось, ставилось в Большом театре и его филиале в середине 20-х и в начале 30-х годов.
Но скепсис и цинизм начинали захватывать меня. Вдруг я стал привыкать к пению баритона, который был абсолютно равнодушен к жизни изображаемого лица, в его исполнении было стихийное, сверхнаплевательское, этакое убежденное и циничное уничтожение всякого смысла в пении. Впоследствии я встретился с этим артистом, вводил его на роль персонажа, обуреваемого страстью, потерявшего всякий контроль над собой. Долго бился с ним. Около двенадцати ночи он вполне спокойно полюбопытствовал, что я собственно от него хочу. «Темперамента!» — взревел я. «А-а, — равнодушно отозвался баритон, — это будет вечером, на спектакле!» С оперной «чепухой» пора было кончать.
Была у меня еще одна страница театральной жизни. Но и она не принесла мне определенности. Родители, видя мою театральную сумятицу, подумали, уж не пойти ли мне в артисты. Так просто, без всякой подготовки — в актеры, и все тут. Вспомнили, что кто-то когда-то был знаком с артисткой Дмитриевской, что работала в Художественном театре, а теперь была в одном из отпочковавшихся театров, который называл себя МРХТ — Московский рабочий художественный театр[45]. Повели меня к ней попробоваться. Читал на пробе монолог Председателя из «Пира во время чумы» Пушкина. Приняли. Пусть играет маленькие роли. Играю. Вижу свою фамилию на афише среди других актеров. Радость безмерная! Режиссеры там были недурные — А. Д. Попов, С. П. Трусов. Правда, в опере все иначе. Но все же я играю. Я — на сцене. Не беда, что без школы, без умения, без знаний. Опыт — нужный, хотя актером я оставаться не собирался. Продолжать свою деятельность по этой линии я не стремился. Таким образом, «кризис моего жизнеустройства» назревал. Надо было решать свою судьбу.
Кто я? Не актер же! Не музыкант! Не посетитель галерки оперного театра! Чем-то «серьезным» надо зарабатывать деньги, иметь специальность. Нельзя всерьез относиться к зарплате, которую я получал в театре, или за иллюстрирование на рояле немых кинофильмов, или за кратковременную работу хронометражистом, или за составление концертных программ для радио. Слишком много разного — значит ничего. Да и по возрасту я уже выходил из детства. Нужно было сделать серьезный жизненный шаг. И я его сделал.
В то время (1929 год) существовали биржи труда. Среди других — молодежная, на Бронной. Записался. Прислали повестку, надо идти в фабрично-заводское училище химического уклона, чтобы через полтора года стать квалифицированным рабочим химической промышленности. Пошел.
Попал в новую для себя атмосферу. Где-то играют Шопена, а здесь товарищи меня спрашивают: «Шпалер носишь на боку?» Я показал им «финку». Порядок! Скоро выяснилось, что они ловко соображают в формулах органической и неорганической химии, и я смог остаться с ними лишь благодаря тому, что в то время существовал в методе обучения так называемый Дальтон-план. Это значило, что группа в восемь — десять человек совместно учила урок, а один сдавал за всех. Легко понять, что этим «одним» я никогда не был.
Учась полтора года, я ничему не научился и помню только, как однажды на очередном ученическом разыгрывании педагога серией глупых вопросов («А почему такая реакция, а не другая?», «А почему этот минерал, а не другой?», «А почему произошло такое соединение, а не другое?» и т. д.) я услышал отчаянный ответ, поразивший и обрадовавший меня: «Природа такая!» Значит, и здесь есть таинство?