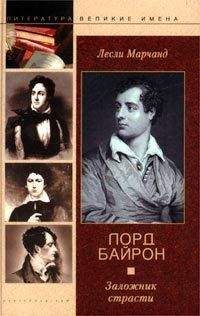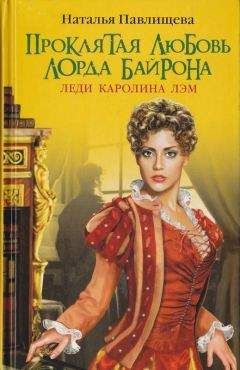Когда Шелли вернулся в Пизу, то нашел дом для семьи Гамба, а для Байрона – просторный дворец XVI века на Лунгарне, дворец Ланфранки. Шелли с нетерпением ждал приезда Байрона. Он сказал Мэри, что «надеется создать общество людей, близких нам по духу и интеллекту, и трудиться на благо этого общества. Никогда еще наши корни не были так глубоки, как в Пизе, а пересаженное дерево не цветет». Шелли давно надеялся уговорить Ли Ханта приехать в Италию и присоединиться к их компании. Байрон уже упоминал о возможности вызвать Ханта из Англии и сделать его соиздателем периодического журнала, и теперь Шелли вновь заговорил об этом, рассчитывая, что Байрон будет так же благожелателен к Хаиту, как к Муру, которому отдал свои мемуары. Однако Шелли не хотел прямо просить Байрона дать Ханту денег на путешествие, хотя Хаит был не настолько щепетилен, и Шелли знал, что он сочтет за честь принять от своих друзей деньги, будучи не в состоянии их потом вернуть.
Как только дом в Пизе был готов, Байрон обнаружил, что перед отъездом из Равенны необходимо сделать еще сотню дел, и только через два месяца он смог отправиться в путь. Сборы он возложил на плечи Леги Замбелли, своего слуги, и, когда Тереза жаловалась на задержку, сваливал всю вину на него. Байрон писал ей: «Не отрицаю, что очень не хочу уезжать, и предвижу серьезные неприятности для всех вас, особенно для тебя. Больше ничего не скажу, сама увидишь».
Тем временем Байрон не сидел без дела в Равенне. Он закончил «Синие» – сатиру на притворных англичанок, именуемых «синими чулками», которые вращались в литературных кругах, а к 9 сентября завершил «Каина». Перечитывая только что напечатанные песни «Дон Жуана», Байрон понимал, что это лучшее из его произведений, и сожалел, что обещал Терезе бросить писать продолжение. После этого он занялся другими делами. Он написал второе письмо Меррею с ответом на нападки Боулза на Поупа и отправил посвящения к драмам. Он посвятил «Каина» Скотту, а «Сарданапала» Гете. После этого Байрон сочинил яростную и дерзкую сатиру на Георга IV и раболепие угнетенных ирландцев, которые приветствовали и развлекали его, едва успев похоронить королеву. Это произведение, названное «Ирландской аватарой», родилось, когда Байрон перечитывал сообщения о похоронах королевы и радостной встрече короля в Дублине, напечатанные в «Морнинг кроникл». Он знал, что это не самое лучшее произведение, и написал Меррею с просьбой не присылать ему провокационных статей, «никаких периодических изданий, чтобы я был свободен от омерзительных выражений похвалы или порицания… Когда я был в Швейцарии и Греции, никто обо мне не слышал, но как я там писал!».
Байрон был вновь расстроен, когда из Пизы прибыли телеги за его поклажей. Он писал Муру: «Я из сил выбиваюсь, вожусь с проклятиями, упаковывая вещи, мебель и тому подобное для переезда в Пизу, где останусь на зиму… Это ужасная вещь – любовь – мешает человеку воплотить все надежды на славу и триумф. Я хотел отправиться в Грецию с ее братом. Он очень хороший, смелый парень и бредит свободой. Но слезы женщины, которая оставила мужа ради другого, и слабость собственного сердца оказались сильнее, и вряд ли мне удастся воплотить задуманное».
Сборы продолжались до тех пор, пока в доме не осталось даже кровати, но Байрон все медлил, ссылаясь на легкую лихорадку. «Под молодой луной» он слез с коня, чтобы пройтись пешком с синьорой. «Но это была не романтическая прогулка, но все же это была новая женщина, которую надо было любить. Однако я произнес лишь несколько ничего не значащих речей». Байрон признавался, что «на сердце у меня лежит свинцовая гора».
Находясь в подавленном состоянии, Байрон работал над одной из самых жизнерадостных сатир – совершенным выражением остроумия и иронии, вершиной его литературного мастерства. Весной он видел хвалебное произведение Саути в честь Георга III под названием «Видение суда» и начал размышлять над шутливо-героической пародией. Враждебность Байрона к Саути росла год от года. Вычеркнув ссылку на Саути в посвящении к «Дон Жуану», он вернулся к ней в третьей песне с едкими насмешками над трусливой натурой лауреата. Но третья песнь еще не была опубликована, когда «Видение» Саути появилось с предисловием, в котором упоминался Байрон, хотя его имени и не было названо, как глава сатанинской школы писателей, чьи произведения «дышат дьявольской злобой и сладострастием» и полны «сатанинской гордости и неслыханной дерзости».
Дав волю своему гневу в ответной атаке в длинном примечании к своей драме «Двое Фоскари», Байрон в отдельном эпизоде с восторгом излил свои мысли и чувства. Он назвал новую поэму – как и его соперник – «Видение суда». Торжественный гекзаметр Саути с изображением суровых наказаний и наград, а в особенности – дифирамбы безумному старому королю стали материалом для сатирического ответа Байрона. Он с юмором изобразил реалистическую картину прибытия Георга к небесным вратам и ожесточенную борьбу за его душу между архангелом Михаилом и дьяволом:
В изысканной учтивости, казалось,
С их Светлостью их Мрачность состязалась.
(
Перевод Т. Гнедич)
Комическая ситуация достигла предела, когда, таща Саути, появился демон Асмодей с жалобами:
Ведь как тяжел, проклятый ренегат,
Его таща, чуть не свихнул крыла я!
Как гири из свинца на нем висят
Его труды – вся писанина злая!
(
Перевод Т. Гнедич)
Тут Саути разражается тирадой, испугавшей как ангелов, так и демонов:
Писал он обо всем – писал немало,
Он хлеб насущный добывал всегда,
И лакомство ему перепадало…
Он пел цареубийц и пел царей,
Но он напоминал и проходимцев,
Всегда способных в нужный срок линять
И убежденья с легкостью менять.
(
Перевод Т. Гнедич)
Когда Саути попытался прочесть свое «Видение» всем собравшимся, то у святого Петра мурашки по коже забегали, а демоны с воем убрались прямо в ад. Святой Петр оттолкнул поэта, и тот упал в свое любимое озеро. Во время всеобщего смятения король Георг проскользнул в рай:
Пробрался в рай: выводит он с друзьями
(Для этого не надобно ума!)
Теперь рулады сотого псалма!
(
Перевод Т. Гнедич)
Не успел Байрон завершить свою сатиру, как на него опять нахлынула меланхолия. Его мысли с грустью вернулись к Августе. Он упрекал ее за то, что «она была так холодна», а потом обратился к своей связи с Терезой, длившейся почти три года: «Могу сказать, что теперь, хотя я уже не так влюблен, как вначале, я привязался к ней больше, чем считал возможным по отношению к любой другой женщине после трех лет, кроме одной, а кто она, можно догадаться… Если леди Б. и муж графини Гвичьоли соизволят умереть, мы, вероятно, поженимся, хотя я бы не стал этого делать, потому что это прямой путь к ненависти для всех людей».
Байрон так не хотел покидать Равенну, что с радостью пользовался любым предлогом, чтобы остаться. Громоздкую мебель давно увезли, но он все еще оставался в пустом дворце. В хорошую погоду он ежедневно ездил верхом, купался в Адриатике, продолжал писать и ждал писем из Англии.
Когда первая часть груза прибыла в дворец Ланфранки в Пизе, встревоженные власти города, правительство Тосканы и австрийские шпионы заговорили о прибытии неблагонадежного англичанина. Президент правительства написал великому герцогу и предупредил его о сеньоре англичанине, который «обладает титулом, неким наследством, литературной славой и серьезно намерен поддерживать изменения в государстве».
Шпионы еще больше бы утвердились в своих подозрениях насчет этого опасного радикала, если бы прочитали его письмо Хобхаусу от 12 октября: «Ваше бессовестное правительство вынудит всех честных людей свергнуть его… Я поддерживаю республику. Исторический опыт подтверждает мои предпочтения…»
Зная, что его приезд в Англию пока невозможен, Байрон в мыслях, однако, все чаще и чаще возвращался туда, потому что не видел впереди никакого просвета. Он искал утешения в воспоминаниях о счастливейших днях своей жизни, детских годах в Абердине, школьных годах в Хэрроу, кембриджских друзьях и холостяцкой жизни в Лондоне.
Чтобы увековечить эти воспоминания, 15 октября он начал писать «Отдельные записки».
«Ни один человек не может заново прожить свою жизнь – это старое и справедливое утверждение… Но в то же время, вероятно, в жизни каждого найдутся моменты, которые хотелось бы пережить вновь». На следующей странице Байрон заметил: «Я написал мемуары, но опустил все действительно важные события из почтения к мертвым, и живым, и тем, кто и жив и мертв одновременно. Иногда мне кажется, что мне следовало бы написать их как урок, но это оказался бы урок, который придется усвоить, а не избежать, потому что страсть подобна водовороту, за которым нельзя наблюдать на расстоянии. Не следует предаваться этим размышлениям, а то я выдам какую-нибудь тайну, которая вызовет недоумение у грядущих поколений».