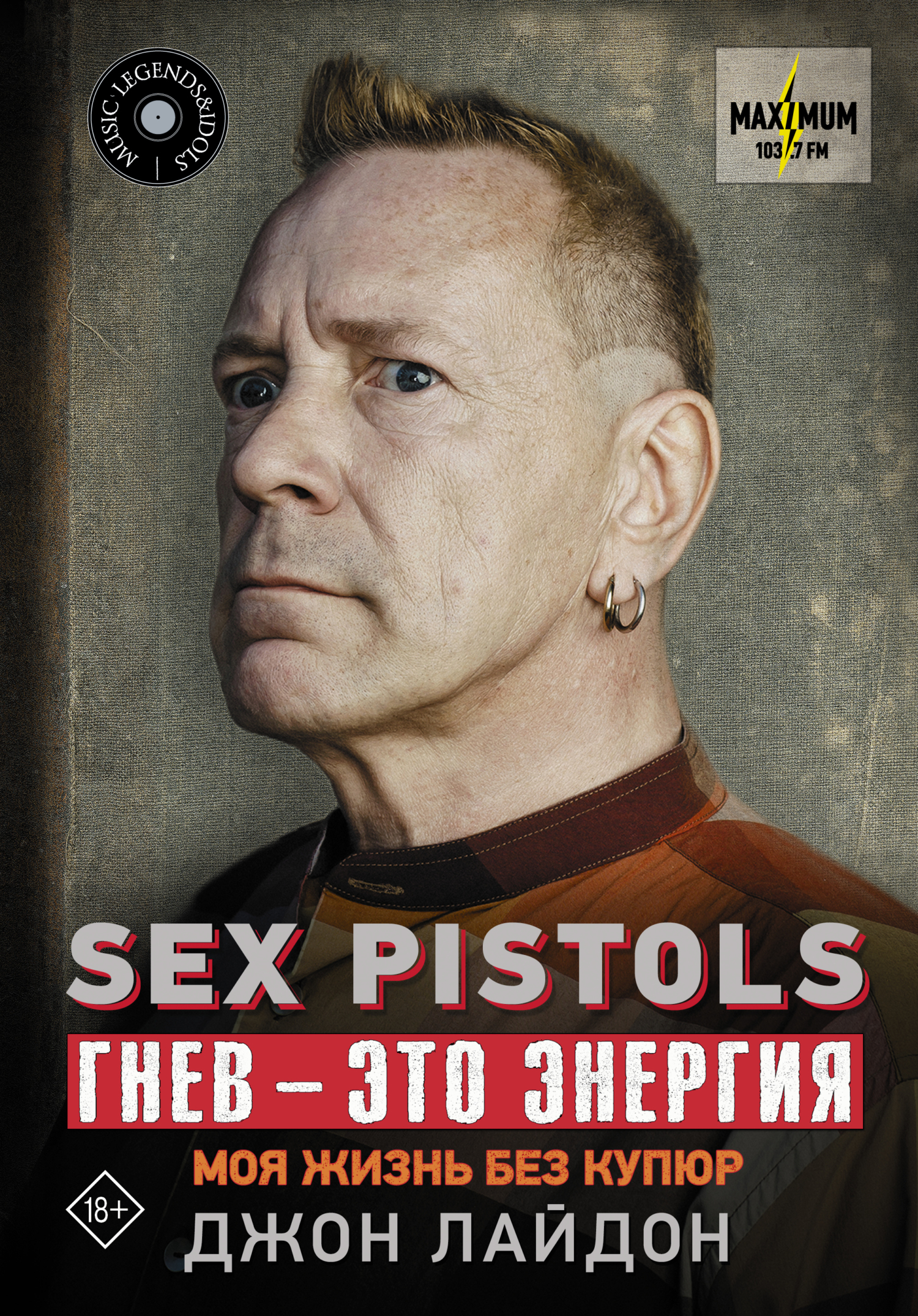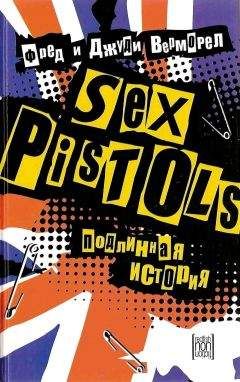намерениями, но был реально потрясен, обозлен и возмущен, когда понял, что вся эта встреча задумывалась с целью вновь свести меня со Стивом Джонсом и Полом Куком. Теперь они называли себя The Professionals, и Брэнсон прокрутил мне кассету с черновыми записями этих кошмарных дынц-дынц-дынц-мелодий, на которые, как они ожидали, я придумаю пару слов. Ни авторства, ни продакшена – просто ужасно.
Я тогда так и не избавился от чудовищного стресса, который оставило разбирательство в суде. Боже, моя голова – не знаю, как я с ней справился. А Стив и Пол все еще были на стороне Малкольма, который, на секундочку, если вы не забыли, украл мое имя и пытался покончить с моей карьерой.
Мне стало очень горько от этой встречи, потому что я всей душой вкладывался в PiL. Я сделал то, что считал правильным решением для Public Image, когда мы только начинали. Правильным решением для себя. Оно было удобно неудобным. В этот момент мы, возможно, находились на распутье, но это было все еще правильное решение, и я не собирался делать два шага назад, скатываясь в подобную ерунду. Это было бы в корне неверно. Поджатый между ног хвост.
Кто цензурирует цензоров? # 2
Лебединые времена
Меня беспокоит, что эта книга может стать слишком заурядной. Больше всего я боюсь, что скачусь в лекцию. Написанный текст – сухая вещь, без акцента на определенных словах в предложении. Я мыслю музыкально, я говорю музыкально и именно так формулирую слова песен. Если вы читаете их на листе бумаги, они не имеют такого же влияния, как произнесенные вместе с музыкой.
Я люблю ораторское искусство. В колледже Кингсуэй я полюбил посыл звука, научился по-настоящему читать и интонационно акцентировать значение слов. До того момента я стеснялся, и вдруг мне стало на самом деле интересно. Я с нетерпением ждал, когда надо будет встать и прочесть перед классом то, что я написал, или то, что мы изучали. Очень нервная вещь, но исключительно приятная, когда объясняешь правильно.
Самым моим увлекательным занятием всегда было чтение Шекспира с простонародным выговором. Язык напыщенной риторики становится реальным. «Истлевай, огарок! / Жизнь – ускользающая тень, фигляр [247] … Советуясь, во сколько штук гроздей! [248]» Тогда это звучит так, как будто кто-то разговаривает в пабе, чего на самом деле и добивался Шекспир. Он не хотел, чтобы народ сбивался с толку. К тому времени, как Шекспиром завладели типы из Оксфорда и Кембриджа, они превратили его в нечто совсем иное.
То же самое относится и к классической музыке. Партии клавесина теперь играют на роялях, используя большие пальцы. А мне запомнились слова моего учителя музыки, который однажды сказал, что если вы хотите быть хоть сколь-нибудь точными в игре на фортепиано, то не должны использовать большие пальцы, потому что на клавесине большими пальцами не играли. На самом деле их просто было некуда поставить. Очень любопытно. Я усвоил этот урок больше, чем что-либо другое. Само исполнение было скучным. Но тезис и стоящая за ним теория всегда меня завораживали.
И точно так же с искусством. Я мог слушать, как народ рассказывает учителям о том, как они понимают замысел своей картины, и мне это казалось бесконечно увлекательнее, чем сидеть там и пытаться сделать сердитый мазок кистью на счет три. «Теперь все вместе. Кисти готовы? Гнев! Я хочу увидеть на листе гнев…»
Много лет спустя, когда я приехал в Кельн в Германии, там проходила художественная выставка, на которую меня захотели пригласить несколько местных немцев. Я пошел и обнаружил небольшую экспозицию картин Капитана Бифхарта. Всего несколько моментов, но я действительно понял гнев и подход Бифхарта к живописи. Это была просто фантастика – смотреть на реальные вещи, а не на обложки его музыкальных альбомов.
Ф-фух, как я хотел одну из тех школьных картин! Еще я хотел значок «Синего Питера» из одноименной детской телепередачи на «Би-би-си» [249]. Но мне никогда не хотелось получить автоматический карандаш «Крекерджек» [250]. Все хотели значок «Синего Питера», потому что это было здорово. Пусть он и был пластиковый, но с напечатанным красивым трехмачтовым кораблем. В то время пластик считался очень современным и потому невероятно восхитительным. Значок был похож на средневековый щит – крошечный, но производивший потрясающее впечатление. Белый с нарисованным на нем синим кораблем – именно его я тогда так желал заполучить.
К слову сказать, сама идея о том, каким должен или не должен быть голос певца, мне отвратительна. American Idol, «Икс-фактор» – эти телешоу подразумевают, что артисты будут исполнять все трели и рулады, которые требуют педагоги по вокалу, словно аксиому. Что за херня, чувак. Почему ты не можешь петь так, как ты ЧУВСТВУЕШЬ? На самом деле пение вовсе не обязательно должно быть, как это принято называть, музыкальным, пойте то, что вы чувствуете в данный момент, рассказывайте о чем-то. Понятие о мелодичности или немелодичности кажется мне странным. Когда я слушаю кого-то, я уверен, что исполнение не обязательно должно идеально попадать в тональность соль-бемоль минор, нет, оно просто должно быть точным. Акцент, характер, настоящая боль в звуках, которые они издают, и послание. Когда такие вещи присутствуют в пении, немелодичности не существует.
Вот где очень важно быть на одной волне, так сказать, гармонировать, так это, конечно, в морских круизах. Вот кого на самом деле разыскивают на American Idol! Певцов морских круизов! Боже мой, ха-ха-ха! Мне всегда нравилась эта история про The Cure [251], потому что ее солист, Роберт Смит, терпеть не может самолеты. Итак, группа села в Нью-Йорке на круизный лайнер «Королева Елизавета II», и ходили слухи – понятия не имею, насколько они соответствовали действительности, – что они там выступали. Я не знаю, правда это или нет, но мне нравится сама идея!
Я никогда не встречался с Робертом Смитом, не разговаривал с ним и не имел с ним ничего общего. Мы вообще незнакомы, и, как ни странно, мне это нравится. Каждый раз, когда я приближался к людям, чья музыка мне нравилась, я чаще всего обнаруживал, что они мне не нравятся. Посмотрите на диапазон музыки, которую я слушаю: это же почти все, верно? Мне нравится эмоциональный заряд, который я получаю от услышанного на пластинке. Даже когда я описываю это, я просто такой: «У-у-ууууууууу-ух!» У меня комок подступает к горлу, потому что я люблю музыку, люблю слушать, что создают люди, но мне не нравится, когда они думают, будто музыка должна быть жесткой и не допускающей отклонений, должна совпадать с определенной