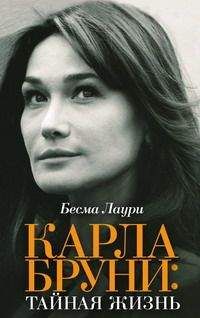Рядом с Мандельштамами в этом же флигеле проживал писатель Амир Саргиджан (псевдоним Сергея Бородина). (Сергей Петрович Бородин родился в Москве в 1902 году. Русский по отцу, по матери он происходил из старинного знатного татарского рода: его мать, Александра Моисеевна, – из рода Ингалычевых. В 1923-м он впервые побывал в Средней Азии, в Бухаре. С этой поездки началось его увлечение Востоком. До 1941 года печатался под псевдонимом Амир Саргиджан. Автор книг «Последняя Бухара», «Египтянин», романа «Дмитрий Донской» и трилогии «Звезды над Самаркандом». С начала 1950-х годов жил в Ташкенте, где и умер в 1974 году.) Однажды у Бородина с Мандельштамом случился на бытовой почве конфликт, кончившийся рукоприкладством. Имеются разные воспоминания об этом инциденте. Так или иначе, больше всего возмутило Мандельштама, что Бородин-Саргиджан во время потасовки задел (ударил или толкнул) и Надежду Яковлевну. «В полуподвале Дома Герцена», вспоминал С.И. Липкин, 13 сентября 1932 года состоялся товарищеский суд под председательством Алексея Толстого. «Сосед Мандельштама, – пишет Липкин, – обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала он сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить» [278] . Суд вынес двусмысленное решение: и тот виноват, и этот. Мандельштам не мог понять, как можно оправдать человека, тем более литератора, ударившего женщину. С. Липкин свидетельствует: «Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. <…> А.Н. Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей, брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того чтобы разумно объяснить, как обстояло дело в действительности, он нервно и звонко, почти певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргиджан и его жена – ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи литераторами того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама» [279] .
Сопоставим мемуары Липкина с воспоминаниями пасынка А.Н. Толстого, Ф.Ф. Волькенштейна: «…В течение 10–15 минут Толстого инструктировали, как надо вести процесс: проявить снисхождение к молодому национальному поэту, только начинающему печататься, к тому же члену партии… [280] <…> Мандельштам произнес темпераментную речь. Обвиняемый [281] молчал как истукан. Все выглядело так, как будто судили именно Мандельштама, а не молодого начинающего национального поэта. После выступления всех, кому это было положено, суд удалился на совещание. Толстой довольно быстро вернулся и объявил решение суда: суд вменил в обязанность молодому поэту вернуть Мандельштаму взятые у него сорок рублей». (Поводом к конфликту было то, что Саргиджан занял у Мандельштама деньги и, видимо, не отдал в срок – между тем Мандельштамы, как почти всегда, в деньгах нуждались. Эмма Герштейн называет в своих воспоминаниях другую сумму – 75 рублей.) Ф. Волькенштейн продолжает: «Поэт [282] был не удовлетворен таким решением и требовал иной формулировки: вернуть сорок рублей, когда это будет возможно. Суд, кажется, принял эту поправку.
Народ в зале не расходился. Все были возмущены. Ожидали, что суд призовет к порядку распоясавшегося молодого поэта. <…>
Щупленький Мандельштам вскочил на стол и, потрясая маленьким кулачком, кричал, что это не “товарищеский суд”,что он этого так не оставит, что Толстой ему за это еще ответит» [283] .
По словам Э. Герштейн, ненависть Мандельштама «сконцентрировалась на личности Алексея Толстого». Желание отомстить Толстому, лениво-барственно «не заметившему», что была задета честь поэта и честь его жены, становилось все более навязчивым, и дело кончилось тем, что в начале мая 1934 года – примерно через восемь месяцев после суда – Мандельштам в Ленинграде дал пощечину Толстому с объяснением: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены» (так передает, со слов В. Стенича, слова поэта Е.М. Тагер) [284] .
На суде А. Толстой, вероятно, учитывал «общественное мнение». А по мнению многих, от Мандельштама уже нечего было ждать, он был «старик», причем «вздорный», получал пенсию за прошлые заслуги и уже не мог ничего дать советской литературе; Саргиджан же был молодым и «обещающим».
Это расхожее мнение о «кончившемся» Мандельштаме не имело ничего общего с действительностью, что и было продемонстрировано на авторском вечере поэта, который состоялся в том же 1932 году, примерно через два месяца после товарищеского суда, и там же: 10 ноября в Доме Герцена, в редакции «Литературной газеты». Мандельштам прочел свои стихи последнего периода и произвел сильное впечатление на присутствовавших. Литературовед Н.И. Харджиев вспоминал о вечере: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в течение двух с половиной часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) – в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший:
– Я завидую вашей свободе. Для меня вы новый Хлебников. И такой же чужой… Мне нужна несвобода. Некоторое мужество проявил только В.Б. <Шкловский>:
– Появился новый поэт О.Э. Мандельштам!
Впрочем, об этих стихах говорить “в лоб” нельзя. <Мандельштам> отвечал с надменностью пленного царя… или пленного поэта» [285] . Это был «новый» Мандельштам, сделавший следующий шаг в своем поэтическом развитии, и это чувствовали слушатели. Сильное впечатление произвело выступление поэта на Александра Гладкова: «Мандельштам одновременно величествен и забавен, горделив и уязвим, невозмутим и нервен, спокоен и беззащитен – истинный поэт. Когда он стал читать в странной, тоже чисто “поэтической” манере, противоположной “актерской”, хотя, пожалуй, более условной, у меня почему-то сжималось сердце. Я знаю чуть ли не назубок все напечатанное, но новое не похоже на прежнее. Это не “акмеистический” и “неоклассический” Мандельштам – это новая свободная манера, открыто сердечная. Как в поразительных стихах о Ленинграде, или тоже по-новому “высокая”, как в лучшем из прочитанного – “Себя губя, себе противореча” [286] » [287] . Мандельштам утверждал себя и свое творчество в редакции газеты, которая сыграла недавно немалую роль в его травле в связи с переводом «Тиля Уленшпигеля». 10 ноября состоялся вечер, а 23 ноября в «Литературной газете» появляется стихотворение о Петербурге-Ленинграде: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (1930), один из шедевров Мандельштама.