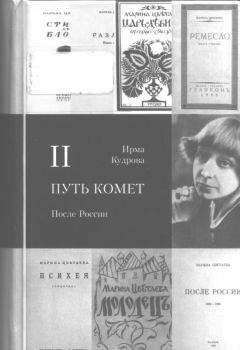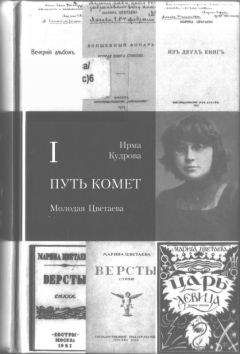Она думает о своем больном друге, ищет спасения — для него.
Но ее рецепт легко узнаваем.
Это — ее собственный способ существования. Ее способ — быть. Она сама в каком-то смысле — инвалид, непригодный для обычного существования. «Я — не для жизни», — сказала она о себе более десяти лет назад. И в ее сознании — это не трагично! А для поэта — чуть ли не благо…
Но опять-таки: Штейгеру всего двадцать девять…
Истосковавшийся без настоящего друга, уставший от белизны санаториев и снежных вершин, он хочет — это так естественно! — в гущу жизни, пусть призрачную, к впечатлениям города, пусть суетного и мельтешащего. Цветаева не может не понимать этого — и понимает. И все же пытается убедить в преимуществах «затвора», в сладости того отказа, который она сама исповедует.
Она слишком категорична.
Она бескомпромиссна, как тот античный бог, который требовал от Тезея ради высшего долга переступить через самого себя. Вспомним:
— То, чего я требую, — божественно!
— То, чего ты требуешь, — чудовищно!
Обретя собственное кредо, она плохо слышит других. Только так! не иначе! Иные рецепты, пути, способы существования она не допускает и до обсуждения…
И когда Штейгер выбирает свое, другое, она уязвлена в самое сердце. Она чувствует себя чуть ли не оскорбленной.
Сплелось тут многое. Захлестнутая всегда бурным потоком собственных чувств и размышлений, она слишком часто не чувствует собеседника — вот этого живого, ни на кого не похожего. Ей всегда хочется «вести» — и даже поучать, причащать к своему миру, — вот еще почему так охотно она вживается в игровую ситуацию матери и сына. Но Штейгер был уже зрелым человеком — то был не двадцатилетний Бахрах! «Вы не знаете, что такое я…» — пытался он объясниться в самых первых своих письмах. Но она почти обрывала его: «…каким бы Вы ни оказались, я буду любить Вас…», «меня хватит на двоих…» Слова эти продиктованы душевной щедростью — и уверенностью в себе. Но в живой жизни они готовят конец той сердечной дружбе, которая едва зародилась. Потому что, не выслушав, она не поймет потом, почему ее рецепты спасения окажутся для него непригодны. И чем в действительности вызваны его реакции. Она будет объяснять их почти нелепо, вдали от реальных причин — со своей колокольни.
«Вы хотите, чтобы вас любили не по-своему, а по-Вашему, не как умеют — а как не умеют…» — напишет она Штейгеру 15 сентября.
Но она могла бы сказать это и самой себе!
В тот день, 15 сентября, она написала последнее письмо из Савойи. Нельзя не заметить резкой разницы в интонациях его начала и конца. Вторая часть письма начиналась пометой:
«Тогда же, после почты».
Гул пробуждающегося вулкана явственно ощутим в дальнейшем тексте.
Какое именно письмо она получила в этот день по почте — неизвестно. Но основное его содержание восстанавливается по ответу. Ясно, что Штейгер сообщал Марине Ивановне о принятом решении: он едет не в Савойю, а в Париж.
Этот вариант она и сама предлагала: сначала они встретятся в Париже, а потом поедут в Швейцарию вместе — Штейгер собирался возвращаться в санаторий. Цветаевой же, в результате ее сложных хлопот, уже обещали устроить выступления в трех швейцарских городах.
Но что-то еще было в том письме Штейгера, что лишило Марину Ивановну душевного равновесия. С уверенностью можно реконструировать, по крайней мере, два момента. Во-первых, Штейгер написал нечто о монпарнасских кафе, где за десятой чашкой кофе в третьем часу утра, в компании Адамовича и прочих он надеется по-настоящему воскреснуть. И во-вторых, что он по-прежнему чувствует себя «мертвым».
Кафе на бульваре МонпарнасПосле всех ее усилий! Когда все дни напролет почти два месяца она думала только о нем и так старалась помочь! Наверное, было бы справедливее обвинить саму себя: не сумела, не нашла нужных слов, не приехала… Но Цветаева услышала иное: ее помощь отвергнута, ее советы не приняты, она больше не нужна. Монпарнасские кафе — вместо «затвора»! Растрачивание души и здоровья — вместо служения призванию?..
И ответ ее звучит впервые в этой переписке в непривычно жестких тонах. «Если Вы — поэтический Монпарнас — зачем я Вам? — написала она в ответ. — От видения Вас среди — да все равно кого — я — отвращаюсь. Но и это — ничего: чем меньше нужна Вам буду — я (а я не нужна, когда нужно такое, Монпарнас меня исключает), тем меньше нужны мне будете — Вы, у меня иначе не бывает и не может быть: даже с собственными детьми: так случилось с Алей — и невозвратно. <…> Я — это прежде всего — уединение. Человек, от себя бегущий — от меня бежит. <…> Поскольку я умиляюсь и распинаюсь перед физической немощью — постольку пренебрегаю — духовной. “Нищие духом” не для меня. <…> На все, что в Вас немощь — нет. Руку помощи — да, созерцать вас в ничтожестве — нет…»
Еще более ужасное письмо она, слава богу, не отослала. Но и отосланное оказалось для Штейгера сильнейшим ударом. Весь этот водопад презрительных фраз имел истоком непереносимую боль, прорезавшую ее сердце. Все красноречие обличений выросло из слишком горячей ее вовлеченности — и рассыпалось бы в одно мгновение, если бы в ответ она услышала: «Вы мне нужны. Вы дороги и необходимы мне по-прежнему. Простите меня, я просто — другой».
Он не догадался. Редкий собеседник слышит не просто слова, а и то, что за ними. Для такого нужны душевные глубины. Райнер Мария Рильке был таким собеседником Марины Цветаевой. Он-то знал, откуда рождаются слишком резкие ее слова, — и откликался на ту боль, какая их вызвала…
Чувство сердечной заброшенности, с которым она так давно живет, душевной пустыни, любовной пустыни — вот где была собака зарыта. Рушилась очередная ее надежда: вырваться из этой мерзлоты, казавшейся уже вечной.
(С каким болезненным удовольствием иные из моих современников потрясают горчайшим письмом Эфрона Волошину, двадцать третьего года! Об увлечениях Цветаевой, сменявших друг друга. О том, что на растопку жара души ей постоянно нужны были дрова.
Они хотели бы — холодные судьи чужих сердец, — чтобы, живя в браке, в котором давно уже нет горения чувств, она и себе самой не признавалась бы, что в этой пустыне она — умирает…)
Мертвой ощущал свою душу не только Штейгер. И Цветаева — в своем варианте.
С момента разрыва с дочерью она живет в холоде отчетливого ощущения: никому не нужна. Муж практически отъединился, ушел в свою собственную жизнь — общественную и личную. Дочь разорвала сердце, не просто уйдя из дому, но пронзив мать презрительными словами, которых не хватит жизни — забыть.