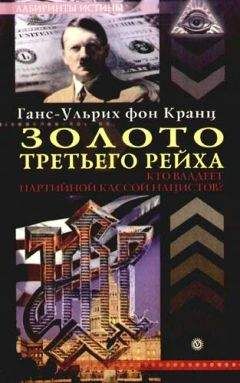На протяжении тех месяцев, когда мы старались совместными усилиями выправить ситуацию, я постоянно встречался с бельгийским и голландским послами – вплоть до последнего момента, чтобы пожать им руку на прощание. Таким образом, я отошел на задний план, как произошло в случае с Норвегией. 10 мая в час дня, когда вторжение на Запад уже началось, я был официально уведомлен о произошедшем. К сожалению, мне больше не довелось свидеться с де Виттом в министерстве иностранных дел, но граф Давиньон появился у нас примерно в семь часов, пообщавшись с Риббентропом.
Он попросил организовать ему звонок в Брюссель из моего кабинета, и я приложил все усилия, чтобы выполнить его просьбу, обратившись к министру связи Онезорге. Время ожидания казалось бесконечным. Тогда я попытался убедить посла, что сопротивление Бельгии бесполезно. Давиньон ответил, что он это понимает, но его король исключительно храбрый и мужественный человек. Бельгия всегда заявляла, что будет защищать свои границы, и собиралась сдержать слово, поэтому фальшивые утешения Риббентропа, стремившегося ввести бельгийские власти в заблуждение, могли лишь ухудшить ситуацию, отрикошетив на Германию. Посол заявил, что Риббентропу было бы лучше поступить как Бетман-Гольвег (рейхсканцлер Германии в 1909 – 1917 годах) в 1914 году, прямо сказавший: «У необходимости нет закона». (Хорошо известна фраза, сказанная им английскому послу в Берлине: не будет же Англия воевать из-за «клочка бумаги» (каковым является договор о соблюдении бельгийского нейтралитета). – Ред.) Но оставался еще суд Божий...
Возвышенные слова Давиньона и его бескомпромиссная позиция произвели на меня глубокое впечатление. И все же я знал, что бельгийцы проливают свою кровь напрасно. Я думал и о тех ужасных разрушениях, которым могут подвергнуться замечательные бельгийские города и архитектурные памятники. Поэтому мне казалось, что лучше всего советовать Давиньону, чтобы со стороны Бельгии не было оказано сопротивления.
Несмотря не все сказанное, я чувствовал некоторое удовлетворение, что во время всего критического периода он постарался выполнить свои обязанности как можно лучше – как в отношении собственной страны, так и в деле сохранения мира. В тот день телефонным переговорам с Брюсселем не было суждено состояться.
Некоторые германские деятели, в частности Канарис, были позже обвинены в том, что предупредили о вторжении в Голландию и, как утверждали, в Скандинавию. Занимаемое положение не позволяло мне отрицать подобные утверждения, но, зная характер адмирала Канариса, я был уверен, что вряд ли он или кто-нибудь из его близких друзей предоставлял подобную информацию противнику. Если же это и произошло, то только для того, чтобы предотвратить агрессию против нейтральных стран, в надежде, что Гитлер откажется от нее, зная, что его планы раскрыты. В этом случае они не совершали предательства интересов Германии, а жертвовали своей репутацией ради предотвращения незаконного нападения.
Я всегда считал, что, находясь рядом с Гитлером и Риббентропом, имею моральное право давать потенциальным противникам определенную информацию (вне зависимости от того, являлась ли она секретной или нет), которая могла предотвратить вступление в войну или препятствовать расширению военных действий. Моей целью было предотвращение превращения потенциального противника в реального.
Но как бы я ни противился агрессивным действиям Гитлера, я никогда не мог принять, ни эмоционально, ни рассудком, чтобы сражающиеся германские солдаты получили удар в спину. Я чувствовал, что Германия способна к ведению переговоров и вызывает уважение как с военной, так и с политической точки зрения. Иначе не будет компромиссного мира и устойчивой ситуации в Европе. Полагаю, что я был прав.
Когда в марте 1940 года я ездил на Западный фронт, то мне показалось странным, что на линии фронта, проходившей неподалеку от Трира, не было слышно ни одного выстрела. С удивлением я наблюдал, как французские солдаты спокойно перемещаются прямо на глазах, не заботясь о маскировке. Все это создавало впечатление молчаливого уговора между двумя сторонами. Но никто из высших эшелонов военной немецкой иерархии, ни даже сам Гитлер, не представлял, что сопротивление французов будет слабым, что, впрочем, выяснилось, как только развернулось немецкое наступление. (Сказать, что французы и их союзники не сопротивлялись, нельзя. Просто они не устояли перед новой тактикой и неистовым стремлением германских войск к победе. Немцы потеряли 45,5 тысячи убитыми и пропавшими без вести, 111 тысяч ранеными. Их противники потеряли 84 тысячи убитыми и 1 миллион 547 тысяч пленными. – Ред.) Неумение генералов понять столь явное преимущество принесло свои плоды, и Риббентроп их подобрал. Он заявлял мне в начале июля (после того, как Франция была побеждена), что перевооружение армии, начало войны и победы достигнуты без участия генералов. Все это доказывало, с его точки зрения, подлинное величие Гитлера.
Глава Генерального штаба сухопутных войск Гальдер придерживался иной точки зрения. Он сказал мне, что только благодаря неправильному вмешательству Гитлера в руки немцев под Дюнкерком не попали все экспедиционные английские войска на континенте, а не только брошенные здесь англичанами и французами вооружения (24 мая по приказу Рундштедта, поддержанного Гитлером, наступление немецких танков было приостановлено на три дня, а затем велось не столь энергично; англичанам удалось эвакуировать из Дюнкерка 338 тысяч человек, в том числе 215 тысяч французов и бельгийцев. Все тяжелое вооружение и 0,5 миллиона тонн военного имущества и боеприпасов было брошено. – Ред.). С другой стороны, генерал Герман Гейер, мой друг детства, говорил мне в конце французской кампании, что никто не верил Гитлеру, когда он выбрал место у Седана (13 мая танки Гудериана форсировали здесь реку Маас и рванулись к морю. – Ред.) для решающего прорыва немцев на Западном фронте. (Гитлер в данном случае согласился с автором этого блестящего плана генералом Эрихом фон Манштейном. – Ред.)
Гейер считался беспристрастным человеком, явно не относящимся к поклонникам фюрера. И некоторые другие генералы также начали судить пристрастно, когда им следовало бы придерживаться более объективной точки зрения. В мае и июне 1940 года недоверие к Гитлеру практически исчезло и его престиж повысился. Захват Франции (а также Бельгии и Голландии) за шесть недель бесспорно явился экстраординарным достижением вооруженных сил Третьего рейха.
Я сам был весьма удивлен. Больше всего поражало германское господство в воздухе. Спустя две недели после начала наступательных действий во Франции я говорил и даже писал, что в конце концов угроза с воздуха больше, чем что-либо еще, будет способствовать объединению Европы в будущем.