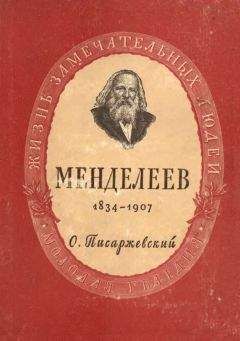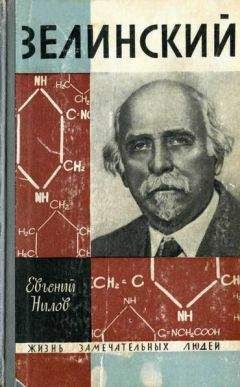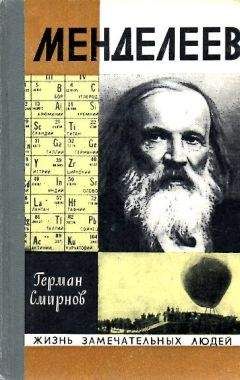Снова и снова возвращался он в своей книге к истории пробуждения нефтяной промышленности, глашатаем и свидетелем которой был. Русская нефть – это была его гордость.
«И если я выставляю, быть может, чересчур уж часто на показ тот пышный промышленный цвет, который быстро дал дождь мероприятий в отношении к росту разработки русской нефти, – писал он, – то только потому, что это дело ближе всяких других знаю с самого его зародыша, который не уставал показывать. И тогда мне говорили, когда я уверял в быстром росте этих дел, если будут предприняты необходимые для него меры, что я кабинетный мечтатель и профессор, практической жизни не понимающий… что лучше дело предоставить собственному течению…»
С торжеством он обрушивал факты капитализации России на народников, которых называл утопистами «самого кичливейшего строя». «Восставая противу капитализма, – писал он, – они требуют мер, подавляющих самое его зарождение, и косвенно приглашают проедать остатки… и в то же время заводить алюминиевые крыши; не указывая, однако, откуда взять алюминий и где его провальцевать в листы»[71].
А его собственная программа формулировалась в самых радужных тонах.
«Теперь, посетив донецкий край и видев его богатства на месте, – писал он, – я говорю то же про каменный уголь, про железо, про сталь, про соду, а изучив положение производства многих других товаров, говорю то же самое про марганцевистый чугун, про канифоль и уксусную кислоту, про хлопок, про множество продуктов животного царства и про многое другое – для чего и назначается эта книга; ибо исстари была «земля наша велика и обильна». Приложится к этому обилию труд, и от обилия произойдет перепроизводство, а от него дешевизна и заграничный вывоз. Он, этот вывоз «не хлеба», растет за последние годы и абсолютно и относительно, как показано далее числами, и этот рост его идет без скачков, какие всегда имеет хлебный вывоз… Купят, как покупают керосин, наш уголь, потому, что он дешевле английского; купят наше железо, потому, что покупают уже и наши железные руды; купят и соду, так как есть условия дешевейшего ее производства у нас – как нигде в мире; купят и все другое, что произведут и перепроизведут в избытке. А если многое разовьется – рабочие на тех делах спросят много хлеба и много разных товаров. Свое внутреннее потребление возродится, возрастет и отпуск, потому, что труд увеличится… Словом, пополненное этими промышленностями целое хозяйство России уравняется, бедствия уменьшатся и богатство, с трудолюбием связанное, возрастет. Пойти все это может лишь исподволь, понемногу, ломки тут никакой не надо, надо только немного в должной степени тарифом и всякими иными способами вызывать и помогать должному. Лет в двадцать настойчивых усилий Россия может достичь того, что не отправит ни зерна своего хлеба – оставит этот заработок неграм Африки, вывозить хлебный товар будет разве в виде муки лучших сортов, крахмала, макарон и тому подобных товаров, имеющих много большую ценность, чем зерно, а главную отправку будет получать от своих заводов и фабрик. Вывоз будет не меньше, а пожалуй и больше современного, да и ввоз также, потому, что разживутся люди, спросят всякой новинки и себе, и жене, и детям. Будущее столетие, с помощью нового тарифа и мер, ему долженствующих отвечать, увидит Россию в новом виде – страной нормальной комбинации сельского труда с заводско-фабричным. Мне не дожить до этого, но слова эти рано или поздно оправдаться должны».
В этой идиллической картинке ближайшего бу-
дущего России отсутствовали только такие подробности, как возрастание иностранного долга, как кризисы, ближайший из которых наступил не позже чем в 1896 году и положил начало широкому развитию монополистического капитала в России. Отсутствовала здесь связанная с неравномерностью капиталистического развития нищета деревни, упадок внутреннего рынка. Через двадцать лет капиталистического развития России, за которыми Менделеев видел наступление всеобщего благоденствия, а именно в 1913 году, В. И. Ленин, за подписью В. Фрей, писал в газете «Северная правда» о некоем статистике, подсчитавшем, что если китайцы удлинят свою национальную одежду только на ширину пальца, это обеспечит работой все бумаго-ткацкие фабрики Англии на целый год.
«Что же необходимо для того, – спрашивал Ленин, – чтобы десятки миллионов русских крестьян «удлинили свою национальную одежду», то-есть, говоря без метафор, увеличили свое потребление, перестали быть нищими, стали, наконец, хоть сколько-нибудь людьми?
Сатрапы нашей промышленности отвечают пустой фразой: «общее культурное развитие страны», рост промышленности, городов, и пр., «подъем производительности крестьянского труда» и т. п.
Пустое фразерство, жалкие отговорки! Более полвека происходит в России такое развитие, такой «подъем», происходит несомненно. За «куль- туру» распинаются все классы. На почву капитализма становятся даже черносотенцы и народники. Вопрос стоит давно иначе: почему это развитие капитализма и культуры идет у нас с черепашьею медленностью? почему мы отстаем всебольше и больше? почему эта увеличивающаяся отсталость делает необходимою экстренную быстроту и «стачки»?
На этот вопрос, вполне ясный каждому сознательному рабочему, сатрапы нашей промышленности боятся ответить именно потому, что они – сатрапы»[72].
Менделеев мечтал о непрерывно, без пауз и передышек, без спадов и кризисов, по развертывающейся спирали нарастающем общественном производстве. Этой мечте нехватало только одного. Этим «только» было осуществление социалистического строя, при котором такое развитие единственно возможно. Но Менделеев не задумывался даже над тем, почему к разработке нового таможенного тарифа с таким подъемом устремились крупнейшие капиталистические воротилы: Мальцев, Бахрушин, Гужон, Кольчугин, Морозов, Прянишников, Четвериков, Торнтон, Крестовников, Мензелинцев и другие.
В реальных условиях России защитительный тариф не содействовал, а задерживал экономическое развитие страны, так как, по меткому замечанию Ленина, служил не всем слоям буржуазии, а «лишь кучке олигархов-тузов»[73]. Им обеспечивались чудовищные сверхприбыли без всяких дополнительных хлопот. Но Менделеев видел в покровительственном тарифе не то, что из него на практике делали капиталистические монополии, то есть средство дополнительного ограбления российского потребителя, а то, что он сам хотел бы в нем видеть, – один из регуляторов, нечто вроде рычага, способного, во имя общих интересов, поворотить «дикую» предприимчивость к тем отраслям промышленности, которые в его глазах требовали особого поощрения.