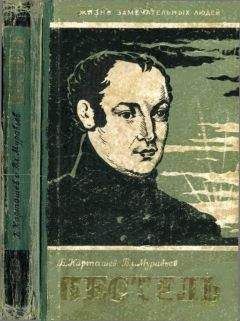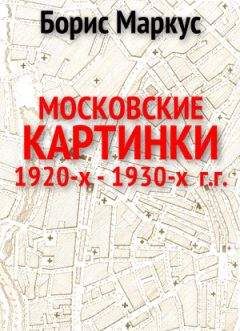Без всякой связи доходили до сознания фамилия, отдельные выражения… хорошо запомнились только слова: «Полковник Пестель… умышлял на истребление императорской фамилии и с хладнокровием исчислял всех ее членов, на жертву обреченных…»
«Это когда я с Поджио говорил, — вспомнил он, — еще пальцы загибал, когда считал… Да, да, как раз в тот вечер я сказал ему, что уйду в Киево-Печерскую лавру». Вспомнился Киев и почему-то вспомнилась свадьба Сергея Волконского: «Как весело тогда было, а он сердился на поляков… Какое испуганное лицо было у Гродецкого… Все прошло. Ах, боже мой, только бы скорее!..»
Рядом кто-то выдохнул: «Повесить!»
«Кого повесить? Его повесить?.. Черт с ним, только бы скорее, совсем измотался за эти месяцы следствия, дрожат от слабости ноги… Почему стол подковой? Он обхватывает их пятерых со всех сторон, как щупальцами, за ним эта шевелящаяся масса в красных мундирах… Но какое спокойное лицо у Рылеева, молодец! Да, надо держаться, держаться во что бы то ни стало!»
Пестель рванул на себе галстук… «Душно, нечем дышать. Так, значит, нас повесят? Ну что ж, пусть, но он не даст повода для злорадства, он будет держаться…»
Скрипнула дверь камеры, Пестель повернул голову. Перед ним стоял пастор Рейнбот — на глазах слезы, скорбные складки у губ, он тяжело дышит от волнения.
— Я пришел к вам, сын мой… причастить вас.
— Передайте моему отцу, — тихим, но твердым голосом сказал Пестель, — что меня расстреляют, поняли, расстреляют. Ни слова о… виселице.
— Все, все скажу, как вы просите, — быстро заговорил Рейнбот, — но долг, последний долг христианина…
— У меня нет долгов, — оборвал его Пестель. — Я чист перед всеми. Вы друг нашего семейства, и я прошу вас поддержать отца в эти трудные дни. Он верит вам.
— А вы? Чем я заслужил ваше недоверие? Каждый раз, когда я прихожу к вам, вы начинаете пререкания со мной. Вы предстанете завтра перед лицом всевышнего, подумайте, что ожидает вас. Ни один волос не падет с головы нашей без воли его,
— Вот-вот, я говорю то же самое. Значит, только по воле его я шел тем путем, который привел меня сюда. Какие же грехи хотите вы мне отпустить, те, которые я совершал по воле бога?
— Не кощунствуйте хотя бы перед смертью. Следует ли думать о делах мира, когда вы завтра предстанете перед ним?
— Только дела этого мира и могут меня утешить, только сознание, что я умираю не зря, дает мне спокойствие. Что вы мне можете предложить взамен?
— Смирение и раскаяние.
— Смирение перед палачами и раскаяние в том, что я хотел блага для своей родины?
— Нет, нет, вы — погибший человек, — слезы текли по морщинистым щекам пастора. — Я не могу говорить с вами. — Рейнбот повернулся и вышел из камеры.
П. И. Пестель на следствии. Рисунок Ивановского.
5
12 июля 1826 года в Санкт-Петербургской городской тюрьме спешно сооружали виселицы и эшафот.
В ночь на 13 июля между одиннадцатью и двенадцатью часами из городской тюрьмы к Петропавловской крепости потянулись возы с разобранным эшафотом и виселицами. Всего возов было шесть, а прибыло их пять, — шестой, самый важный, на котором был брус с кольцами для веревок, куда-то исчез. Пришлось срочно делать новый.
Сразу же по прибытии возов стали устанавливать эшафот. Место выбрали у крепостного вала против ветхой церкви Святой Троицы. Под эшафотом вырыли глубокие ямы и застелили их досками. Недалеко от кронверка стояло старое здание Училища торгового мореплавания — оттуда принесли скамейки под виселицы. К 3 часам утра все было готово.
Белая петербургская ночь подходила к концу: город еще спал в сырых предрассветных сумерках; только иногда то там, то здесь глухо прокатывалась барабанная дробь, да предрассветную тишину прорезал надрывный звук труб: к крепости стягивались войска, по одному эскадрону или взводу от каждого гвардейского полка.
Не все согласились участвовать в страшном спектакле, поставленном Николаем. I. Полковник граф Зубов отказался вести эскадрон своих кавалергардов в крепость. «Там мои товарищи, и я не пойду», — заявил он. Офицер, которому приказали сопровождать на эшафот смертников, ответил: «Не хочу на склоне лет стать палачом людей, которых уважаю». Но таких было немного, остальные шли угрюмо, молча, но шли. Шел и Иван Шипов, которого Николай «простил» за выступление против товарищей
14 декабря, но велел присутствовать при казни его друга и родственника Пестеля.
Зрителей собралось немного. За день до того полиция распустила слух, что казнь будет в восемь часов утра на Волковом поле. Петербургское начальство боялось большого скопления народа. Явились только жители близлежащих домов, разбуженные барабанным боем, да немногие, кто сумел узнать об истинном месте казни.
В начале пятого часа утра в Алексеевский равелин явились два палача, несколько полицейских во главе с полицмейстером Чихачевым и двенадцать солдат Павловского полка под командой поручика Пилкмана. Отворили двери камер. Раздался возглас: «Пожалуйте, господа!» Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский вышли в коридор. У всех руки были связаны кожаными ремнями, на ногах гремели кандалы. Они бросились друг к другу и, насколько позволяли ремни, обменялись крепкими рукопожатиями.
Снова раздалась команда, и шествие двинулось по коридору. Впереди Пильман, за ним пятеро полицейских с обнаженными шпагами, потом смертники, солдаты и, наконец, палачи. Чихачев наблюдал за шествием, стоя в стороне.
Шли медленно — осужденным мешали кандалы, кроме того, Пестель чувствовал себя очень слабым и еле передвигал ноги. Перешагнуть порог тюрьмы у него не хватило сил, его перенесли солдаты.
Вышли на кронверк. Свежий воздух приободрил осужденных, они оживились, пошли быстрее. Впереди, отдельно от всех, шел Каховский, за ним Муравьев в паре с Бестужевым, потом Рылеев с Пестелем. Пестель и Рылеев тихо говорили между собой по-французски. «C’est trop»[26], — донеслось до полицейских замечание Пестеля, когда они проходили мимо эшафота.
Приказали остановиться и сесть. Все пятеро опустились на траву.
Было тихо-тихо. Уже рассвело, небо покрыто серыми тучами, с Невы тянуло сыростью. Было видно, как на пустыре перед Монетным двором строились в каре войска.
— Как странно, — сказал вдруг Муравьев, — помнится, лет десять тому назад я подарил своей кузине альбом. По поверью, кто первый напишет в альбом что-нибудь, умрет насильственной смертью. Первая написала она что-то вроде — пишу первая, потому что не боюсь смерти. Вслед за ней написал и я — как сейчас помню: «Я тоже не боюсь и не желаю смерти… Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым».