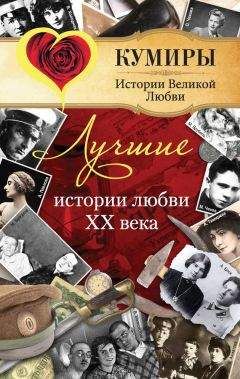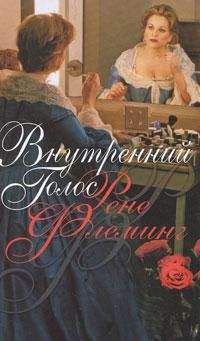Они подозревали ее в неверности Мише… Как с первого дня повелось, со слов няньки Маши: «Уж больно красива! Не обошла бы нашего-то. Ну да я дознаюсь!» – так и продолжалось во все время их с Мишей супружества. Когда Ольга собиралась куда-то – ее провожали подозрительные взгляды, перешептывания, «коварные» вопросы, вроде – «знает ли Миша, куда она идет», «для кого она так нарядилась», «почему так весела (или напротив – встревожена)». Когда Ольга возвращалась… Повторялось все то же самое, разве что список вопросов менялся («почему долго отсутствовала», «довольна ли свиданием», «почему весела (или печальна)»).
От Миши защиты ждать не приходилось. Миша обожал мать и, кажется даже, чувствовал какую-то вину за то, что женился, привел в их с мамой жизнь эту хорошенькую, надменную девушку с холодными глазами, да еще и – как выяснилось уже после свадьбы – без приданого!
Правда, через некоторое время после свадьбы Константин Леонардович, отец Ольги, успокоился немного, смирился с выбором дочери и начал помогать материально молодой семье. И даже принимал Мишу и Олю у себя. В письме к тетеньке М.П. Чеховой (от 8.05.1915 года) Михаил Чехов пишет уже, что «принят он здесь у Олиных родных чудесно». Так что вроде бы скандальная история закончилась благополучно, но… Увы. В письме – приписка: «Стремлюсь домой к маме, и если бы мне не было так хорошо у Олиных, то я давно погиб бы от тоски».
Скандальная история закончилась благополучно только для одной стороны – для Книпперов. Для Чеховых она продолжалась… Наталья Александровна считала, что денег, посылаемых Оле отцом, мало. Что ее замечательный, гениальный сыночек заслуживает большего. И продолжала грызть невестку в тайной надежде, что та не выдержит и сбежит, оставив их с сыном.
Будь Олечка воспитана иначе – она бы не выдержала. Но отец вбил в нее слишком суровые понятия о долге. Она вышла замуж – и теперь должна жить с мужем, невзирая ни на какие трудности. Она совершила опрометчивый поступок – и теперь должна расплачиваться. Сама. Должна. Должна… И она жила с Мишей и расплачивалась, расплачивалась за свою наивность и романтичность – каждый день, каждый час.
К тому же именно сейчас родителям было не до Оли с ее семейными проблемами – у них и собственных семейных проблем хватало! Потому что в хрупком, болезненном Леве взыграла вдруг некая дерзновенная отвага, и взмыла юношеская душа его на волне всеобщего патриотизма (тогда еще положение русской армии не было таким уж отчаянным) – и Лева сбежал на фронт.
Владимир Владимирович Книппер, двоюродный брат Ады, Оли и Левы, писал в своей книге «Пора галлюцинаций»: «Да, было так. В начале Первой мировой войны 16 лет от роду сын немцев бежит на фронт сражаться против немцев за вскормившую его землю. Леву насильно возвращают в Москву. Вопреки воле родителей он служит вольноопределяющимся в западной части, при первом удобном случае добивается отправки на фронт. Участвует в боях. Летом 1917 года Лева поступает в Орле в школу офицеров конной артиллерии».
Впрочем, пока еще Лева только сбежал на фронт и его еще не вернули, и дальнейшее развитие событий родные не могут даже предугадать, и мысли у них, и предположения о судьбе его – самые страшные. И не до Оли им, не до Оли… Ее своевольство и ее страдания – на фоне поступка Левы и его возможной печальной участи – кажутся родителям такой мелочью!
Это было худшее время в жизни Ольги Чеховой. Хуже уже не будет. Никогда.
«Михаил Чехов очень тяжело переживал расставание с Ольгой. «Помню, как, уходя, уже одетая, она, видя, как тяжело я переживаю разлуку, приласкала меня и сказала: «Какой ты некрасивый. Ну, прощай. Скоро забудешь». И, поцеловав меня дружески, ушла»».
Какие бы испытания ни спосылала ей судьба в ее будущей жизни, стоило вспомнить годы первого замужества – и все казалось простым, легким и преодолимым. Она так закалилась в эти три с половиной года, что ничто уже после не могло сломить ее: нищета, тяжелые утраты, опасность, болезни – она сможет выдержать все. Потому что уже смогла выдержать это: брак с Мишей Чеховым и тесное общение со свекровью.
Понимая, что победить неприязнь Натальи Александровны и Маши или как-то расположить их к себе невозможно, Олечка старалась как можно меньше бывать дома – особенно в отсутствие Миши – и стала посещать занятия в Первой художественной студии у Станиславского. Это был особенный мир, непохожий на мир внешний – мир, населенный особенными, необыкновенными людьми. И именно поэтому, погрузившись в жизнь этого особенного мира, можно было отрешиться от мира внешнего, забыть все то горестное, что ожидало ее по возвращении. Из книги Михаила Чехова «Путь актера»: «Зависти и интриг в МХТ не было. Станиславский и Немирович-Данченко приучили нас любить театр больше, чем собственную карьеру и выгоду. Но жажда играть была одинаково велика у всех. Пьес в театре шло сравнительно мало, и актеры не могли изжить вполне своей страсти к игре. Т.Х. Дейкарханова рассказывала мне, что даже Москвин, столько переигравший на своем веку, не был удовлетворен до конца и играл для себя. Он «хоронил» актеров и актрис МХТ, соглашавшихся на это. «Покойник» или «покойница» клались на стол, а Москвин служил панихиду, обливаясь слезами. Или он брал сделанный по его просьбе из картона маленький детский гробик, садился на извозчика и ездил по улицам Москвы, без шапки, крестясь и плача. Народ останавливался и тоже крестился».
Олечка посещала занятия студии в качестве вольнослушательницы, потому что актерского таланта тогда еще никто в ней не признавал и сама она не осмелилась бы держать экзамен. Но благом было для нее даже просто послушать споры о трактовке пьесы, того или иного образа, длящиеся порой до самой генеральной репетиции, просто посмотреть, как Константин Сергеевич Станиславский учит вживаться в роль. Он всегда требовал предельной концентрации и дисциплины. Вне зависимости от того, играл актер главную роль или был занят во второстепенной, в гримерную он должен был прибыть за час до спектакля. Чтобы успокоиться, расслабиться и – вжиться… Прямой переход: от улицы, извозчиков, повседневных проблем – к сценическому образу – Станиславский считал невозможным. За опоздания карал сурово: за первое – предупреждение, за второе – штраф пять рублей, за третье – штраф десять рублей, а если опоздания продолжаются – увольнение за «неуважение к группе». Впрочем, до этого ни разу не дошло. Кроме того, Станиславский считал, что каждый актер в студии должен попробовать себя и в других «театральных профессиях»: так, студийцы дежурили за кулисами, помогали помощнику режиссера, следили за реквизитом, участвовали в работе сценографа. И это – помимо уроков непосредственно «по специальности»: в частности, Ольга Чехова вспоминала пантомиму через ритмическую гимнастику и постановку дыхания, уроки музыки, лекции по истории театра и костюма… Когда пьеса оказывалась изучена «как следует», то есть «до последней точки», начинались многочисленные «живые прогоны», вызывавшие у некоторых нетерпеливцев – к коим, кстати, относилась и Олечка, – «горькое разочарование и взрывы отчаяния»: еще бы – ведь приходилось репетировать по 150–200 раз! Это бывало поистине мучительно. Чехова вспоминала, что одна из соучениц упала без сил прямо на сцене и заплакала: «Я больше не могу!» На что Станиславский холодно ответил: «Нет ничего, чего не мог бы актер – когда он талантлив. Если вы иного мнения, то поищите другую профессию». Сама Олечка частенько бывала «иного мнения», а потому и не помышляла всерьез о профессии актрисы. Впрочем, она еще не осознавала тогда, что по сути своей является актрисой кинематографической, а не театральной.