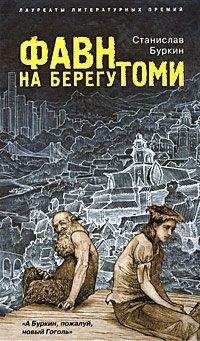Василий Иванович был рад, что брат ухожен. Но когда Варвара под вечер, накрыв стол для ужина и поставив на него кипящий самовар, ушла домой, на Качинскую, Василий Иванович вдруг накинулся на брата:
— Эх, Саша, друг мой милый, ну что бы тебе не жениться! Чего ты один свой век коротаешь?.. Ну, я понимаю, что с мамочкой было бы трудно ужиться другой женщине, но сейчас-то?.. Чего ты сидишь бобылем?.. Взял бы замуж хорошую девушку из казачек…
Александр слушал, посмеиваясь в усы.
— Да что ты, Васенька? Кто за меня пойдет? — лукавил он, поглядывая на племянниц. — Да и привык я к вольготному житью. Ведь засвататься недолго, а потом женишься, а она тебе вдруг не даст дома шорничать, скажет: «Чой-то здесь у тебя? Чо стучишь да пылишь? Чой-то за мусор в доме заводишь?..» Разве я не знаю, с чего все начинается. Нет, уж я привык самому себе быть хозяином!
Шестнадцатилетняя Оля улыбнулась, сидя за самоваром на бабкином месте:
— А я бы за такого, как дядя Саша, только и пошла бы, да еще сама бы ему ремни для сбруи резала и во всем, во всем помогала… Ты не знаешь, какой ты!.. Нет, правда, папочка, — вдруг вспыхнула Оля, поймав внимательный, чуть удивленный взгляд отца, — ты знаешь, как дядю Сашу здесь все любят, с ним просто нельзя пройти по улице!..
— Да, да! — с оживлением подхватила Лена. — Вот вчера пошли с ним в городской сад, так ни словечком не обмолвились, только и знай, что картуз снимает да направо и налево раскланивается: «Здрасте, да здрасте, да как поживаете…»
И правда, друзей у Александра Ивановича было столько, что, вечно окруженный их заботой и вниманием, в постоянных обязательствах перед ними, он не имел времени предаваться раздумью над одиночеством. Красноярцы любили его больше, чем уже ставшего знаменитым старшего Сурикова, хотя младший не обладал никакими талантами. Природа, казалось, затратила все ресурсы дарования на старшего, возместив младшему красотой, ростом и обаянием.
С приездом семьи художника в доме на Благовещенской снова зазвенела по вечерам гитара, стали бывать гости. Василий Иванович по-прежнему любил встречаться с красноярскими казаками, но терпеть не мог чиновничьих жен. Однажды ему не понравилась какая-то компания чиновников с супругами, случайно забредшая к Суриковым среди воскресного дня, и он исчез.
Александр Иванович вначале не обратил внимания на отсутствие брата и с удовольствием прислушивался к тому, как Оля и Лена занимали дам рассказами о московских театрах, цирке, о вербном базаре на Красной площади. А гости провели таких интересных полтора-два часа, что, восхищенные светскостью молодых хозяек, даже не заметили отсутствия их отца. И, только прощаясь, уже на крыльце, попросили передать привет «папаше».
— Однако где же «папаша»-то наш? — спохватился дядя Саша.
Он обежал конюшню, огород, заглянул в дорожный тарантас, стоявший в дальнем углу, — брата нигде не было. Заметив откинутый замок на двери баньки, вошел внутрь и тотчас попал в удивительную, сказочную тишину, где «русским духом пахнет». Пробеленные от постоянного пара полы и лавки и темно-янтарные бревна сруба издавали какой-то извечный запах чистоты и замшелости вместе. Днем от нетопленной, кажущейся огромной печи веяло холодком и таинственностью, а в молчаливой, зияюшей чернотой топке, конечно же, пряталась «нечисть»! Солнце сквозь низенькие окна яркими квадратами ложилось на покатый белый пол. На лавке, закинув руки под голову, крепко спал брат Василий. Рядом стояла баночка с водой и ящик с акварельными красками. А на развернутой странице альбома был нарисован акварелью угол баньки с окном, за которым белела метелица цветущей черемухи.
Александр Иванович, смеясь, стал тормошить брата:
— Ты что же, хозяин? Сбежал от гостей? Да ты, брат, точно Суворов. Тот, бывало, в селе Кончанском — помнишь, он туда сослан был без права ношения мундира, — от неугодных гостей в рожь убегал. Гости его ищут, беспокоятся, а он себе храпит во ржи…
Василий Иванович вдруг сразу оживился, вскочил с лавки, стал собирать краски и кисти.
— Так, говоришь, во ржи спал? Это лихо!
— Я, Вася, теперь зачитываюсь книгой Петрушевского «Генералиссимус Суворов». До чего ж интересным и прекрасной души человеком Суворов был! Вот бы тебе почитать.
Они вышли в огород на тропку меж грядами, где неистово пахло укропом и мятой. Дочери, стоявшие на верхнем балкончике, опершись о перила, наблюдали, как они идут по тропе, останавливаясь и о чем-то беседуя, смеясь и снова шагая друг за другом и опять останавливаясь за разговором.
С этого вечера братья ежедневно читали Петрушевского. Василий Иванович снова попал в плен. Новая ноша легла на плечи.
И когда в начале августа к дому подкатили неизменный тарантас, готовясь к отъезду, и все заполнила суета укладки, обсуждения, споры, а из кухни тянуло ароматом пирожков и шанежек, которые Варвара выпекала для дорогих ее сердцу девочек Суриковых, Василий Иванович задумчиво бродил по дому. Он был рассеян и отвлечен какими-то глубокими, потаенными думами.
А в альбоме уже хранились наброски самых первых, понятных только ему одному композиций «Суворова в Альпах».
Ежедневно вахтпарад Павла Первого начинался с тонкого, расщепляющего душу звука флейты и барабанной дроби, под которую гвардейцы должны были быстро и высоко вскидывать ногу и плавно опускать ее в «гусином шаге». До чего ж любил флейту этот маленький урод, этот рыцарь Мальтийского ордена, со вздернутым носом на сплющенном лице!..
Суриков стоял против Инженерного замка. Было шесть утра. Угрюмое здание темнело в ноябрьском рассвете, овеянное жестоким прошлым. Удивительно четкий и жесткий ритм в расположении черных окон прерывался полукружиями башенных углов и дворцовой церкви, как дисциплина военного марша — галантными светскими полуоборотами…
А вокруг зажигались огоньки в домах. Петербург 1896 года просыпался. Задвигались фигурки прохожих, побежали разносчики с лотками и корзинами на головах, зацокали копыта по мостовой. Но Василий Иванович жил в этот час ровно столетьем назад. Он ясно представлял себе Павла — в треуголке, с кокардой на белых буклях, в мундире при орденах и лентах, открывающим вахтпарад. Офицеры дрожали на этом страшном представлении, которое могло окончиться ссылкой, экзекуцией, казнью… «Почему платок увязан с излишней толстотой?» — бесновался император, тыкая тростью в какого-нибудь офицера, и лицо безумного самодержца искажалось гримасой, а влажные, всегда чуть обиженные глаза становились злыми, как у мопса. (Да, да, именно как у мопса, которого вчера Суриков видел в конке на руках у какой-то старушки. Мопс, дергаясь в руках хозяйки, раздраженно лаял на каждого входившего в вагон.) Император, не помня себя, с лающим криком обрушивался на очередную жертву, и уличенного тут же, прямо с плаца, гнали в Сибирь. Все может случиться. Может и рядовой за удачный ответ в одно мгновение стать офицером…