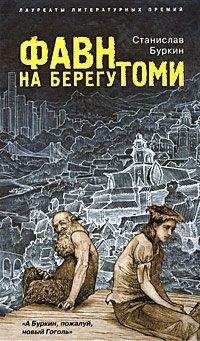Василий Иванович не торопясь свернул за угол и оказался возле памятника «Прадеду от правнука». На него нельзя было глядеть без улыбки. Словно надутый воздухом, сидел Петр Великий на таком же вздутом, огромном коне с маленькой головой и тонкими ногами. Казалось, великий Растрелли сотворил этот памятник, будучи в веселом настроении, и в то же время скульптура была величественна.
Суриков обошел вокруг памятника и, вернувшись к замку, побрел вдоль Фонтанки. Силуэты облетевших деревьев чертили ветвями рассветное небо. Вдали, над изогнутым легким мостиком, закачались на ветру фонари. Суриков перебирал в памяти все, что ему удалось перечитать за это время. Перед его воображением словно наяву вставал Павел. Он боялся всего: призрака революции, своих офицеров, придворных, собственной жены и даже детей, которых у него было десять. Вечная подозрительность…
У него была волевая челюсть, унаследованная от матери Екатерины, и громадный лоб, за которым пряталась блестящая память, впечатлительный ум и на диво непоследовательные, неудержимо разбегающиеся лихорадочные мысли, толкающие на неожиданные поступки… А ведь мальчиком был он миловидным и застенчивым, слегка картавил и нюхал каждый вновь увиденный предмет. (И это тоже совершенно собачья привычка! Опять мопс в конке пришел на память Василию Ивановичу.) И вот из этого галантного жеманника выросло чудовище… Полный произвол над страной. Никто никогда ни в чем не был уверен. Страшное время!..
Суриков опять обошел замок, миновал парадный выход в Летний сад, завернул за угол и пошел вдоль апартаментов императора и дворцовой церкви. Черные окна бельэтажа притягивали глаз. Здесь за ними 11 марта 1801 года произошла трагедия. Нужно ли было четыре года строить эту цитадель со рвом и подъемными мостами, чтобы на сорок первый день пребывания в ней быть убитым своими же царедворцами!.. Император боялся спать в одной и той же комнате. На этот раз он приказал поставить свою походную кровать в кабинете…
А гибель была совсем рядом. И таилась она не за подъемными мостами, отделявшими замок от помыслов молчаливых простых смертных, а под напудренными париками вельмож, которым Павел доверил свою судьбу. И когда они вошли в темноту кабинета, императора в постели не оказалось. Он стоял в рост в глубине камина, за экраном, и в темноте белели его ноги в теплых белых кальсонах…
Расправа была долгой: император был живуч…
Вся Россия плакала в это утро, обнимаясь в ликовании и радости.
«А что, если написать эту сцену? Великолепный сюжет! Последние минуты Павла… — Василий Иванович как зачарованный глядел в черные окна кабинета. Воображение художника уже воссоздало композицию сцены убийства. — Какое лицо можно сделать! Боже мой! Смертельный испуг, тоска, звериная ненависть… Жалкий, уродливый, и все же пытается удержать надменность императора всея Руси… Это же сильнейший драматический момент!..»
Суриков снова вышел на площадь перед замком. И вдруг ясно увидел то, на поиски чего пришел сюда. По этой аллее каждый раз приезжал к Павлу Суворов. Суворов! Они всегда не ладили с Павлом.
«Солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный», — утверждал Павел.
«Солдат — слово гордое!» — возражал Суворов.
«Солдат не должен рассуждать. Слепое повиновение во всем. За малейшую провинность — шпицрутены. И чем ровнее шаг, тем вернее победа», — так рассуждал Павел.
«Люби солдата, и он будет любить тебя!» — говорил Суворов. Он знал своих солдат и лучшим давал прозвища: Орел, Сокол, Огонь. Он сам себя считал солдатом, держался запросто и часто шутил с ними. Суриков представил себе его лукавую и приветливую улыбку, прищуренные, в морщинках глаза. Чудо-человек, он презирал слепое подчинение и «немогузнайку», требовал, чтобы не только офицер, но и каждый рядовой понимал предстоящий боевой маневр. А как он скакал в полотняной рубахе, раздувавшейся на ветру! Как он скакал в лагерях между полками и кричал:
«Первые, задних — не жди!.. Вытягивай линию!»
Обедал в десять часов утра. Ел щи и кашу, хотя любил и французские соусы так же, как любил вставлять французские фразы в письмах дочке Суворочке в институт… Павел презирал его за эту рубаху, за мужицкие повадки, за национальный русский дух…
Сурикову вдруг пришло в голову, что этот национальный русский дух, конечно, был абсолютно чужд Павлу. Мать Павла — немка Екатерина ввела при дворе французский обиход. Она быстро освободилась от мужа — Петра Третьего, — немца по крови и воспитанию, и тогда Павел, которого унижали и постоянно издевались над ним фавориты матери, стал поклоняться памяти отца и целиком воспринял немецкую культуру. Он ввел немецкую военную муштру. Суриков изучил все военные формы того времени. И его поражало то, что Павел из протеста отказался от «потемкинской» формы, такой удобной во время походов. И заменил эту форму длинными мундирами, треуголками, которые слетали с головы на ветру. Ввел сложные прически на смоченных квасом и присыпанных мукой солдатских головах, с подвязанным сзади железным прутом, к которому прикреплялась коса с буклями, завитыми и приклеенными к вискам. Мученьем было сооружать эту прическу, полночи уходило на нее, а потом до утра надо было сидеть, чтоб, не помять буклей…
А по Суворову, «туалет солдатский должен быть таков, что встал — и готов!»
Суриков шел и улыбался, вспоминая поговорку Суворова: «Пудра не порох, букли не пушки, косы не тесак, и я не немец, а природный русак!» Павел, бывало, в гневе ссылал неугодивший ему полк прямо с плаца: «Шагом марш — в Сибирь!» И шли… в Сибирь. «Вот ведь от века, — думал Суриков, — Сибирью, моей любимой Сибирью наказывали людей, а по мне — лучше Сибири и места-то нет на белом свете!..»
Ветер стал еще резче, а в наступившем рассвете закружились снежинки. Василий. Иванович засунул руки поглубже в карманы и пошел в направлении Михайловского манежа. «Прадед» в латах, с надменным отечным лицом, насупившись смотрел со своего круглого коня вслед удаляющейся одинокой фигуре художника.
«Забежать, что ли, в чайную на Невском, чайку выпить?»
Ему захотелось согреться, утолить голод. Суриков, прибавив шаг, двинулся мимо музея Александра Третьего к Екатерининскому каналу.
«Вот еще один путь на эшафот», — думал он, вглядываясь в решетку набережной, черневшую сквозь снежные хлопья. — Ровно через восемьдесят лет после кровавой расправы в Инженерном замке внук Павла был взорван бомбой возле той решетки…
Он дошел до угла. Справа, громоздясь между четкими линиями набережной, лепился неуклюжий, тяжелый храм «На крови», чуждый по духу, словно вырванный из какого-то иного окружения и насильственно внедренный в гармонию петербургской перспективы.