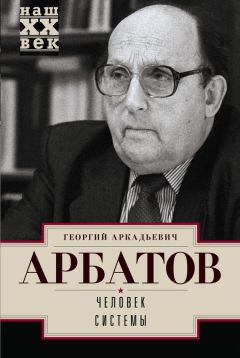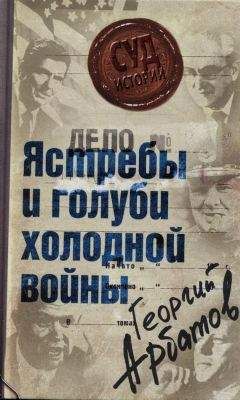Эти лихорадочные усилия по наращиванию сверх всякой нужды количества оружия не только подорвали экономику страны, но и пагубно сказались на наших политических интересах.
Во-первых, они подорвали доверие к нам на Западе и, уж во всяком случае, позволили военно-промышленному комплексу США и стран НАТО развернуть эффективную кампанию, чтобы подорвать доверие общественности и к нам, и к разрядке как таковой. Это стало ясно к концу семидесятых годов, когда возникли большие (после Афганистана ставшие неодолимыми) трудности на пути ратификации Договора ОСВ-2 в сенате США. Мало того, эти наши действия серьезно подстегивали в США настроения в пользу нового рывка в гонке вооружений как ответа на усилия Советского Союза, которые, по оценкам Запада, «превосходили разумные пределы обороны».
И второе следствие: мы в этот период яснее, чем когда-либо раньше, показали американцам, НАТО, что будем гнаться за любой их новой военной программой, повторять ее, иногда даже отвечать на одну программу двумя или тремя. В Америке быстро поняли, что в условиях, когда СССР имеет в три-четыре раза меньший валовой национальный продукт, чем США и их союзники, это открывает надежный и, главное, совершенно безопасный для них путь к подрыву мощи Советского Союза, а в конце концов, может быть, и к нанесению ему полного поражения путем экономического истощения в безнадежном военном соперничестве. Именно при Рейгане, в первые годы его правления, были разработаны концепции «конкурентной стратегии», планы военного строительства, имевшие специальной целью «делать устаревшими прошлые советские капиталовложения в оборону», навязывать нам при помощи своих программ соперничество в самых невыгодных, дорогостоящих, изматывающих нас сферах.
А мы как бы смирились с тем, что будем вести игру по американским правилам, ответили такой концепцией паритета, которая, по существу, лишала нас возможности самостоятельно определять свою военную политику. Она как бы отдавала ключи от наших оборонных программ американцам, гарантируя им, что мы пойдем по тому пути, который за нас определят они.
К этому следует добавить некоторые крупные политические просчеты, касавшиеся обороны в ключевых регионах.
Один из таких просчетов – это неверные, завышенные оценки угрозы со стороны Китая. Они заставили нас сконцентрировать на Дальнем Востоке очень большие силы, что, в свою очередь, создавало у Китая впечатление угрозы, исходящей от нас. И естественно, заставляло его идти на ответные меры – наращивание ядерных и обычных вооружений, а также политическое и военное сотрудничество с Западом.
Другой просчет касался Европы. Мы ухитрились одновременно вести здесь две разные, даже взаимоисключающие политики. Одна – курс на разрядку, создание надежной системы безопасности и сотрудничества. И другая – политика лихорадочного наращивания вооружений, непомерных, превышающих все пределы разумного. Притом мы скрывали подлинные размеры своих военных сил не только от общественности, но и от партнеров на переговорах в Вене, не останавливались перед прямой неправдой. А это, естественно, подрывало доверие к нам еще больше.
В довершение всего во второй половине семидесятых годов мы начали размещение в Европе новых ракет средней дальности – знаменитых СС-20. Эта затея не только стоила нам многих миллиардов рублей, но и сплотила НАТО, позволила милитаристским кругам западных стран подстегнуть военные приготовления и, в свою очередь, начать размещение в Европе американских ракет средней дальности.
Сейчас, когда этот вопрос решен с помощью «двойного нуля», мы достаточно ясно показали, что считаем решение о развертывании ракет CC-20 ошибкой. Хотел бы сказать, что немалое число наших специалистов да и дипломатов видели это уже в семидесятых годах, как только стало известно (для большинства – из западной печати), что началась установка новых ракет. К ним относился и я. И я пытался высказать свои сомнения на весьма высоком уровне. Первый раз – в беседе с А.А. Громыко. Он меня внимательно и, как мне казалось, сочувственно выслушал, но промолчал. И, как я потом узнал, точно так же он молчал или поддакивал, когда эти вопросы решались руководством. Тогда многие говорили, что министр иностранных дел уходит от споров и столкновений с военными, так как побаивается Устинова, прежде всего потому, что уже думает о том, что может случиться после Брежнева, с которым он был в очень близких отношениях.
Вскоре представилась возможность поговорить также с Андроповым. Он, выслушав меня, выразил недоумение: «Чем ты возмущаешься? Мы заменяем старые ракеты новыми – это дело естественное». Я ответил, что идет замена «одноголовых» ракет «трехголовыми», к тому же другими по типу, что вызывает серьезную озабоченность на Западе, пусть в чем-то искусственно подогреваемую. Это, добавил я, просто не вяжется с разрядкой, Хельсинкским актом, переговорами о сокращении вооружений, в том числе в Европе, да и вообще с тем, что у нас развивается диалог. И, видя непреклонность собеседника, «капитулянтски» предложил: «Ну ладно, если уж нельзя обойтись без замены старых ракет, то, во всяком случае, не стоит, как раньше, все делать втихую, молчать. Надо как-то объяснить Западу, что мы делаем, в чем наша цель и какое примерно количество ракет будет размещено. Мы просто не можем, – убеждал я Андропова, – в условиях разрядки и переговоров вести себя по-старому, осуществлять новые крупные военные программы, ничего не говоря, ничего не объясняя ни Западу, ни мировой общественности». Вот здесь мой собеседник взорвался и резко возразил: «Ты что хочешь, чтобы мы объяснялись с НАТО о том, что хотим делать, чуть ли не спрашивали у них разрешения? Этого нет и не будет». Разговор оставил у меня нехороший осадок, я не понимал вспышки Андропова и потом пришел к выводу: он разозлился именно потому, что не имел убедительных ответов и в то же время хорошо знал, насколько безнадежно ставить этот вопрос перед руководством. Не исключал тогда и сейчас не исключаю, что по каким-то тактическим соображениям он уже поддержал размещение этих ракет – может быть, тоже не желая портить отношения с Устиновым. Должен сказать, в тот период личные отношения между членами политбюро играли большую, слишком большую роль, нередко во вред делу.
В общем, убежден, что ни Громыко, ни Андропову я на эту проблему глаза не открыл. Она обсуждалась у нас, о ней писала к тому времени западная печать, о ней говорили во время официальных контактов с Западом. Но сама мысль о сдержанности, об умеренности в военных делах была тогда нам, наверное, совершенно чужда. Возможно, даже из-за глубоко сидевшего в нас комплекса «неполноценности» – ведь в вооружениях нам после войны все время приходилось догонять США. У меня даже сложилось впечатление, что, как только у нас появлялась система оружия, вызывавшая на Западе большой шум, мы начинали ликовать: вот, мол, какие мы сильные и умные – смогли ущемить, напугать самих американцев и НАТО. В эти годы без видимой политической нужды мы взахлеб вооружались, как запойные.