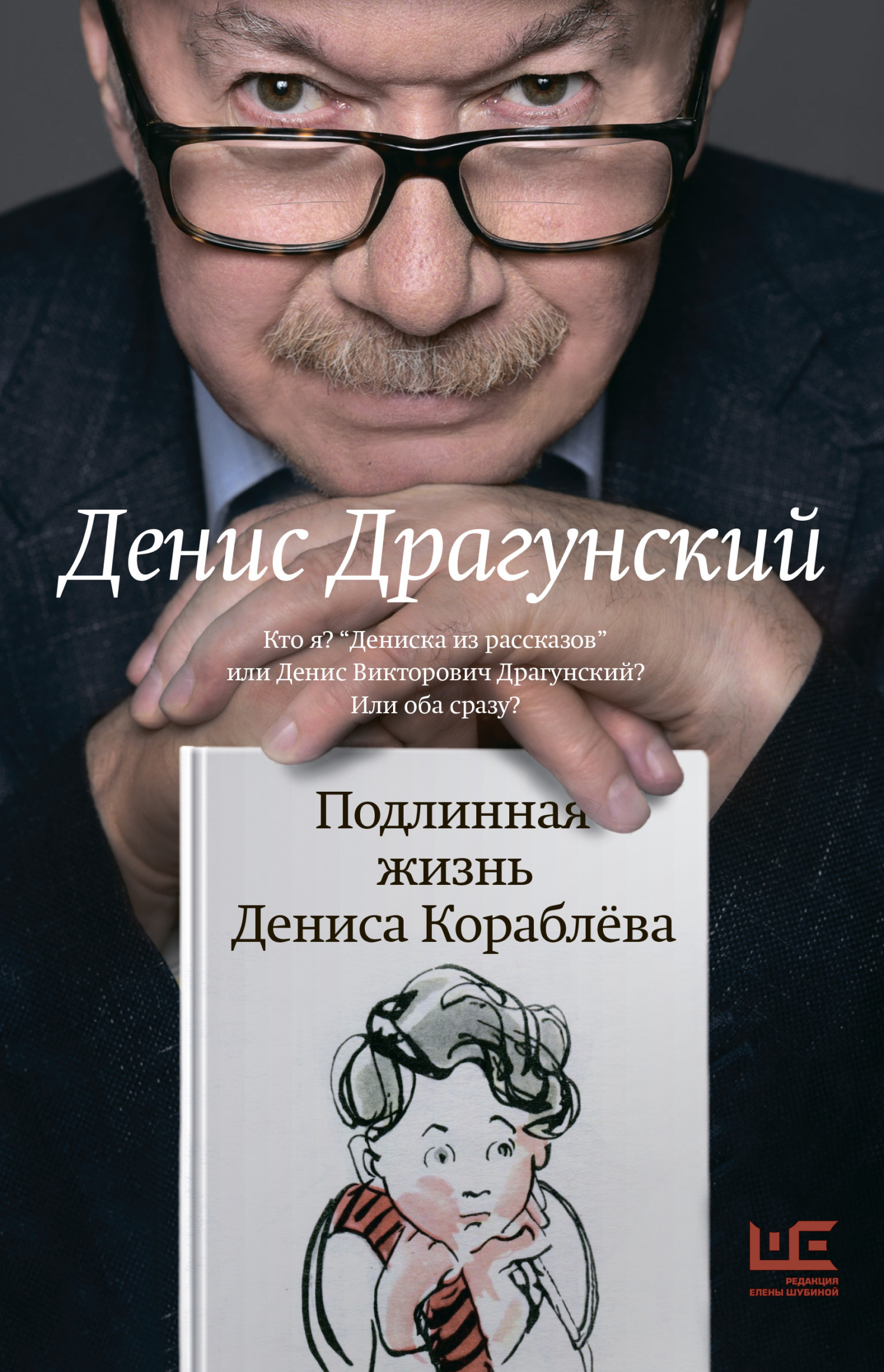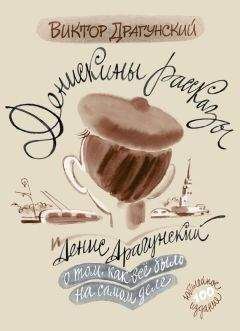вот так, впрямую не сталкивался. От испуга я стал очень спокоен и хладнокровен; бывает такая парадоксальная реакция. «Развращать – это как?» – спросил я. «Буду тебе загадки загадывать. Вот, например: висит, болтается, на «х» называется. Увидит «п», хочет «е». Что это такое?» – «Как же, как же, – сказал я. – Хобот у слона. Увидит пищу, хочет есть. Правильно?» Она засмеялась и похлопала меня по плечу: «Молодец. Только главное, маме не жалуйся. Маме нажалуешься, скажу, что ты ко мне приставал». – «А чем докажешь?» – спросил я. «Не бойся, докажу!»
С тех пор я старался обходить ее стороной. А она, долго вертясь у зеркала, говорила моей маме: «Шляпку, Алла Васильевна, тоже надо уметь носить». У нее были кавалеры, которые провожали ее прямо до дверей нашей квартиры, но внутрь, слава богу, ни-ни, даже тогда, когда я в квартире оставался один. И я понимаю почему. Конечно, Лися могла бы что-то быстренько соорудить в одной из свободных комнат. Но тогда ей надо было бы долго-долго меня уговаривать, что она вовсе не домработница, а, скажем, племянница моей мамы. Наверное, она именно так своим кавалерам и представлялась.
Однажды мой дядя Эрик-Валерик заинтересовался ею. На что-то намекал. Лися пофыркивала, но было видно, что принципиального решения еще не приняла. Как-то Эрик зашел к нам, у Лиси как раз был выходной; но она должна была вот-вот прийти. Был вечер. Но вот уже девять часов, Эрик собрался домой и сказал: «Жаль. Я надеялся с ней повстречаться. Хотел даже ее в кафе пригласить». Я захихикал: «А давай я ей так и скажу, что вот, мол, Эрик ждал тебя, чтоб в ресторан повести, а тебя все не было и не было, и он ушел». – «Ты что! – сказал он. – Разве можно так издеваться над человеком?» Я согласился. В самом деле, нельзя.
Когда у нас жила Лися, у меня умерла птичка. Это был певчий щегол, так называемый турлукан, красавец и весельчак, пел великолепно, а я его сгубил от неразумия и странной, жестокой беззаботности.
Дело было так. Вечером в субботу, накормив и напоив его (то есть насыпав в клетку зернышек и поставив воду), я уехал на дачу навестить родителей и вернулся в воскресенье днем. Дома никого не было. Лися была на выходных, уехала то ли к родным, то ли к подруге, чтобы вернуться в понедельник утром.
Я зашел в комнату, увидел, что щегол все склевал и вода кончилась. Щегол застрекотал и запрыгал с жердочки на жердочку. Он, наверное, просил есть. И я сказал себе «сейчас, сейчас» – и вышел в кухню, где был корм и вода. Увидел на столе «Литературку» и стал читать. Потом с газетой плюхнулся на диван в папином кабинете, через стенку от моей комнаты. Я почему-то безумно увлекся чтением. Из-за стенки я слышал, как там скачет и щебечет голодная птица – но все читал, читал, читал, будто нанялся прочитать все, от передовицы до юмора и сатиры на 16-й полосе. Потом щегол – я заметил это сквозь чтение – как-то затих. А я продолжал читать. Потом встал, пошел на кухню, попил чаю с чем-то черствым и с газеткой, уже с другой. Только часа через два или три вспомнил про щегла и пошел в свою комнату. Щегол сидел на полу клетки, втянув голову. Я насыпал ему зернышек и налил воды. Он не стал клевать и вообще не пошевелился. Потом вытянул шею, выпил одну каплю, проглотил ее, запрокинув голову, снова нахохлился и закрыл глаза. Я вышел из комнаты, спать лег в папином кабинете, а когда утром вошел к себе – щегол лежал на спине, выставив кверху холодные лапки.
Скоро приехала Лися, и я сказал ей, что щегол подох. «Умер! – поправила она. – Ты его закопал во дворе?» – «Нет, – сказал я. – Я его завернул в газету и выбросил в мусоропровод». У Лиси глаза налились слезами. «Как же так?» – сказала она. «А что?» – «Это же был турлукан!» – «Да, турлукан», – я слегка вздохнул. Мне было неприятно, но не очень. Я понимал, что виноват, но особенно не угрызался. Скоро я почти забыл о смерти щегла. Но через много лет стал горестно об этом вспоминать, и до сих пор вспоминаю. Когда со мной случается что-то отменно нехорошее, я сам себе говорю: это мне за то, что я птичку погубил. Но это уже старческая сентиментальность.
А тогда я был убежден, что человек – венец творения и главное звено пищевой цепочки: вегетарианцы казались мне предателями самой идеи человека, который должен «покорять природу», охотиться на зверя и птицу и лопать все съедобное и вкусное.
Наверное, поэтому у меня не ладилось с животными. Черепаху я попросил отдать – как-то мне с ней было неинтересно. Рыбки, которыми я увлекся по примеру Вани Лактионова, у меня передохли. Однажды летом был у меня молодой кот Шустрик – но он был не мой, а хозяйки соседней дачи; через месяц ему у меня надоело, и он ушел домой. Потом был сиамский котенок Сингапур, красивый, злой и царапучий. Прожил у нас полгода, наверное, – и его у моей мамы выпросила знакомая портниха Таисия Филипповна, умоляла: «Аллочка, я так мечтала о сайгонской кошечке!» (именно «сайгонской», а не «сиамской», говорила она). Я не особенно сопротивлялся – хотя для порядка похныкал. Собак у нас практически не было. Почему «практически»? Потому что сначала мы хотели завести жесткошерстого фокстерьера – тогда очень модная порода – где они сейчас? – и даже ездили выбирать щенка на дачу к знаменитому летчику Михаилу Громову, командиру второго «трансполярного» экипажа. Это были чудесные щеночки. Мы выбрали одного, запомнили его хорошенько, чтобы приехать и забрать через пару недель. Но мама тогда была беременна Ксюшей. Доктор сказал, что есть вероятность подхватить от собаки какую-то странную болезнь (кажется, токсоплазмоз), от которой ребенок может погибнуть в утробе. Понятно, как среагировали мама и папа после предыдущей драмы. А потом уже, буквально за полгода до смерти, папа купил щенка спаниеля. Для этого папа даже вступил в охотничье общество и получил членский билет. Щенка звали Тото. Он бегал по кухне, когда я сидел там с тогдашней своей женой в ночь папиной смерти, а мама, Ксюша и тетя Муза спали в кабинете. Смешной песик. Мама отдала его в хорошие руки, какому-то настоящему охотнику. Он похвалил щенячьи стати, ну вот и хорошо.
А ведь когда-то – с двенадцати и до пятнадцати лет – я хотел стать художником. Живопись, а точнее говоря, рисование – это