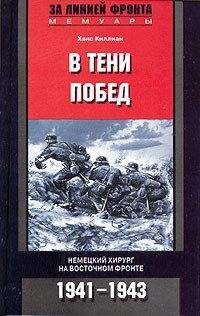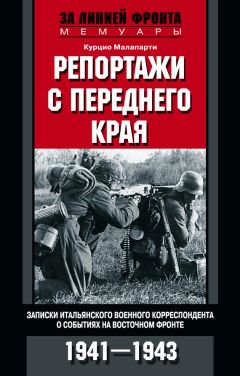– Садитесь.
У стены стоит стул. Я подхожу к нему, хочу его взять и поставить рядом с письменным столом. Не тут-то было! Когда я берусь за спинку, звенит цепь. Стул для посетителей крепко прикован к стене цепью.
Я начинаю ворчать:
– Что такое, что за свинство?
Должно быть, он слышит, но никак не реагирует. Он спокойно продолжает просматривать документы и повторяет:
– Присаживайтесь.
Я резко разворачиваюсь и заявляю:
– Спасибо, господин генерал-майор, – и отодвигаю стул в сторону – раздается лязг цепи. – Я предпочту постоять.
Он на это ничего не отвечает. Тон последующего разговора соответствует обстановке. Я по-прежнему стою на расстоянии пяти метров от него и отвечаю на вопросы коротко, по-деловому холодно, давая почувствовать, что возмущен его бестактностью.
С полковником медицинской службы Криглером произошло то же самое, он тоже отказался сесть на прикованный стул.
Вскоре в Порхове состоялся осмотр стационарного военного госпиталя. Новенькому представилась возможность показать себя.
Когда мы проходим по залам, от кровати к кровати, от одного раненого к другому, постепенно его невежество раскрывается самым неблаговидным образом. Больные его мало интересуют. Зато он раздражается из-за любой покосившейся картины, из-за каждой пылинки, рваной простыни, некрасивого температурного листа, и это естественным образом вызывает цепную реакцию, поскольку он ворчит не только на ответственного фельдфебеля или санитара, но и переносит свой гнев сразу же на всех начальников, начиная с ответственных за отделения и заканчивая главным врачом госпиталя, с которым обращается высокомерно и пренебрежительно. Лазарет содержится в ужасном состоянии, говорит он, это заставляет усомниться в дисциплине. И дальше в том же духе. Мы молчим.
Новенький подходит к кровати одного раненого, которому пришлось ампутировать ногу, после чего он никак не может прийти в себя – жалуется на трагедию своей жизни. Внезапно главный врач обрывает его и нагло заявляет:
– Пустяки! С протезом вы сможете ходить даже лучше, чем раньше.
Холодное молчание. Ошеломленный, я подхожу к раненому поближе, чтобы успокоить его, но прежде, чем успеваю сказать интеллигентному пациенту хоть одно доброе слово, он приподнимается и отвечает офицеру медицинской службы с красными лампасами:
– Господин генерал-майор, те руки и ноги, которые подарил нам Господь, не может создать ни один человек.
Бесстрашный ответ. Мы все пристально смотрим на него и с напряжением ждем, как отреагирует генерал-майор. Но кажется, новенький ничего не почувствовал, этот случай его больше не заботит, он направляется дальше.
Теперь мы проходим в другой зал, где лежат пациенты с переломами конечностей. Повсюду тросы, катушки и грузы. Каждый раз хирург называет вид перелома. Внезапно генерал-майор оборачивается и спрашивает меня:
– Скажите-ка, профессор, что, собственно говоря, означает скелетное вытяжение?
Я понимаю, он учился на гинеколога. Гинеколог вовсе не обязан знать о скелетном вытяжении сломанных конечностей. Но сейчас он главный врач армии, в его ведении находятся госпитали и раненые. И вот он задает просто позорный вопрос, свидетельствующий о постыдном невежестве. Мы в замешательстве. Вдруг, в эти неловкие секунды, один произносит то, что на уме у каждого. Наш рентгенолог, стоящий позади всех, отчетливо бормочет: «Вот это да, откуда только взялся этот олух?»
Однако наш новенький не только вызывающе высокомерен, но, по-видимому, еще и туговат на ухо. Просто мастер все пропускать мимо ушей! Рентгенолога, видного специалиста в своей области, никто не беспокоит, до ссоры или скандала дело не доходит. Когда группа направляется дальше, я отвожу его в сторону:
– Дружище, главное – молчите. Господин гинеколог, скажем так, врач, который оказался на распутье. В мужчинах он ничего не смыслит. Ему не повезло, поскольку в госпиталях только они и лечатся.
На севере России лето короткое, но дни по-прежнему длинные. На протяжении этих немногих ограниченных весной и осенью месяцев земля утопает в зелени. Днем жарко и солнечно, ночью душно, а от одной ночи до другой природа снова и снова преподносит нам свои чудеса. Так непривычно и вместе с тем тревожно наблюдать за тем, как стремительно все созревает за эти недели. Ритм природы кажется просто бешеным. Едва проклюнувшись, рожь уже желтеет, не успев вырасти. Бескрайние поля цветущих подсолнухов расстилаются золотым морем. Конопля развешивает свои нежно-голубые бутоны, а овес выпускает усики.
Вернувшись из утомительной поездки в Порхов, однажды после обеда я принимаю холодную ванну в коричневых водах Шелони, после чего располагаюсь на склоне, греясь и нежась под ласковыми лучами солнца.
На противоположной стороне к реке приближаются три русские девушки не старше восемнадцати – девятнадцати лет. Хохоча и веселясь, они мчатся по берегу, затем, заметив мягкую зеленую лужайку рядом с водой, останавливаются. Они не могли меня не заметить, но с удивительной естественностью, как будто так и надо, начинают раздеваться. Нас разделяет не больше пятидесяти метров. Они нисколько не стесняются, а я с улыбкой наблюдаю, как с них слетает летняя одежда: юбки, лифчики и трусики. Абсолютно обнаженные, три грации стоят под солнцем и потягиваются. Поистине райская сцена и восхитительная по своей наивности картина. Я чувствую себя шелонским Парисом. Затем, не торопясь, они сначала показывают друг другу свои яркие разноцветные купальники, стараясь поразить всех остальных, а потом облачаются в них. Они бегом устремляются к речке и, оказавшись в воде, с гамом и смехом начинают плескаться и барахтаться.
У нас на родине купальник имеет одно-единственное предназначение: прикрывать женскую наготу. А у этих русских все иначе. Они не стесняются своей естественной наготы и надевают купальник только ради того, чтобы украсить себя. Показываться обнаженными – в этом они не видят ничего непристойного, но почему?
После того как три девушки вдоволь накупались, обсохли и погрелись на солнышке, они снова снимают купальные костюмы, бегут нагишом к реке, выжимают мокрые вещи и опять надевают платья. Чрезвычайно тронутый их милой беззаботностью, я долго смотрю им вслед, когда они не спеша вдоль берега идут обратно в город.
Сегодня я начинаю проводить серию пластических операций одному совершенно обезображенному раненому. Парня должны были оперировать на родине, но он умоляет меня устранить уродство, чтобы его не испугались.
– Как мне вернуться домой таким уродом, господин капитан? – говорит он в отчаянии. Он боится потерять свою невесту.