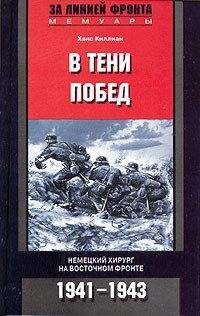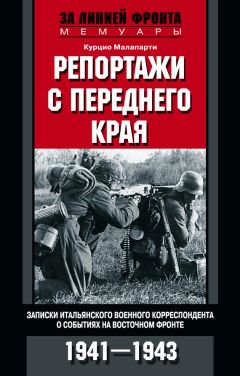Операции будут сложными и длительными. Левый глаз и вся средняя часть носа вырваны осколком гранаты, левая половина лица оказалась обезображенной, также нет части слизистой носа. Скверно, очень скверно. Нижнее веко левого глаза полностью вывернулось наружу, покраснело, воспалилось и выглядит просто отвратительно. Правда, ноздри и кончик носа еще остались, но края глубоко втянулись в рану. Края раны срослись, и обе ноздри оказались совершенно закрытыми.
Стоящая передо мной задача сложна и объемна. Лексер, один из наших мастеров пластической хирургии, после Первой мировой войны подарил новое лицо бессчетному множеству таких солдат.
Под общим наркозом и местным обезболиванием одновременно проходит первая операция. Сначала я заново иссякаю края раны, вырезаю целые части огрубевшей, зарубцевавшейся ткани, открываю обе ноздри и рассекаю сросшуюся хрящевую перегородку. Таким образом наконец-то удается выпрямить нос. Затем на левом предплечье вырезается большой стеблеобразный кожный лоскут, всаживается на место огромного дефекта носа так, чтобы внешний край кожи был внутри, а жировой слой выходил наружу. На это есть свои серьезные причины: дело в том, что сначала нос должен полностью уплотниться внутри. Затем уже подобным образом можно будет вырезать кожный лоскут с правой руки и закрыть внешнюю поверхность дефекта, завершив формирование носа. Между двумя кожными лоскутами потом я собираюсь вставить хрящ или костную пластинку, чтобы образовалась спинка носа.
Вшить кожу удается совершенно точно – это не представляет никаких трудностей. Намного сложнее зафиксировать руку в нужном положении, поскольку вырезанный кожный лоскут ни в коем случае не должен оказаться в напряжении, иначе от недостатка питания он погибнет. Тогда все будет напрасно.
Этот метод восходит к традициям сицилийского семейства Таглиагоццо, которое, возможно, почерпнуло свои знания из Индии.
Я сгораю от любопытства, приживется ли пересаженная кожа.
Фронт уже давно утратил свою подвижность, он оцепенел. Наша служба стала монотонной и однообразной: объезды, осмотры, операции, доклады, обсуждения. Читаю двухчасовую лекцию двумстам студентам, которых отправили на фронт. Молодые люди с интересом следят за моими объяснениями – это радует.
Каждый раз, делая остановку в Порхове, я проверяю своего пациента. За него можно быть спокойным, он идет на поправку и понемногу привыкает к своему положению. Пересаженный участок кожи в полном порядке.
13 августа. Продолжение пластической операции. Первый лоскут хорошо прижился. Удивительно, за какое короткое время он сросся с новой тканью. Уже сегодня я могу начать проводимую в несколько этапов засечку прижившейся кожи.
Пациент радуется малейшему прогрессу и очень благодарит. Лишь бы мне сопутствовал успех.
Начало сентября, уже чувствуется приближение осени. Листья начинают менять свой цвет. Перелетные птицы собираются лететь на юг. Утки, аисты, журавли, хищные птицы и прекрасные сизоворонки стремятся прочь отсюда. Молча мы смотрим им вслед. На душе тревожно. Неужели зима снова близко? Дни становятся все короче и короче.
С аэродрома в западной части Пскова вылетает наш «Ju-52», который должен доставить меня в Демянск. Над Ловатью творится черт знает что. Зенитные установки палят не переставая, того и гляди собьют. Долететь без потерь – настоящее счастье. Нам это удалось. Наверное, скоро можно будет летать только по ночам.
Я снова останавливаюсь у Венка. Пропускная способность его госпиталя просто поражает. За девять месяцев осады Демянска этот полевой госпиталь оказал помощь 14 тысячам раненых и больных, что убедительно доказывает, какие потери мы несли из-за ранений и болезней. В госпитале бушует малярия. Врачей она тоже косит. Но поскольку опасных симптомов нет, никто не воспринимает эту болезнь всерьез. Так же как и при сыпном тифе, инфекцию переносят вши.
Я снова оказываюсь в «графстве», разъезжаю от одного госпиталя к другому. В одном полевом госпитале мы оперируем тяжелый случай газовой гангрены, ее коричневую форму. Она менее опасна. Голубая форма намного хуже, а самая опасная – белая газовая гангрена, ее трудней всего диагностировать. Коричневая окраска возникает в результате разложения крови.
Люди Венка построили в саду госпиталя баню. За ней присматривает молодой Иван – славный парень, преданный и отзывчивый. Хотя я себя не очень хорошо чувствую – приступы поноса снова вызывают мучительные судороги кишечника, – я все равно иду в баню попариться. Молодой русский тщательно растирает меня. И все равно мне дурно. Я предчувствую что-то недоброе. Дело в том, что какое-то время назад здесь, у Венка, я обнаружил у себя в рубашке вошь. Неужели эта бестия меня укусила?
После бани мне становится так плохо, что я вынужден лечь. Мы спим в комнате Венка втроем. Сегодня его пригласили в дивизию. Когда поздно ночью он возвращается, я все еще не сплю, меня лихорадит, я обливаюсь потом.
Венк тихо заходит в комнату. Он бросает на меня взгляд, я не шевелюсь и притворяюсь спящим. Венк садится за письменный стол и зажигает свечу. Я вижу, как в ее мерцающем свете он рассматривает фотографии своей жены и детей. Он достает их из сумки и расставляет перед собой. И едва слышно шепчет что-то. Он разговаривает со своей женой, со своими детьми.
Они – это чудо в его жизни, непостижимое для него чудо. Он не может поверить в то, что они принадлежат ему, что они живы. Я чувствую, как сжимается и колотится мое сердце. Что он говорит и как он это говорит – переворачивает душу. У меня перехватывает дыхание. Его слова, его запинающийся шепот… я не все понимаю, но чувствую и слышу, что он произносит: «Вы… часть меня… часть моего существа… моей души…»
«Не подслушивай», – внушаю я себе. То, что он произносит, раскрывает глубины его души, это его личная тайна. Я не двигаюсь, но я ведь не могу заткнуть себе уши. Его тихий шепот насквозь пронизывает меня, проникая в самую душу. Человек говорит о своей беде, о том, что происходит в глубине его сердца.
Венк, такой твердый и неприступный… закрывает глаза руками. И плачет. Я уже не смотрю на него, но слышу его рыдания. Это плач отчаявшегося, во всем сомневающегося человека, печаль которого неизмерима. Его слезы проклинают злополучную войну.
Проходит довольно много времени, затем он снова складывает все фотографии. Идет к своему топчану и скидывает с себя униформу, гасит свечу, растягивается на соломенном тюфяке, беспокойно ворочается. Его тревога передается и мне. Я тоже не могу заснуть. Вспоминаю своих дорогих и любимых на родине, жену, маленького сына, тоска по ним тяжело угнетает меня. И снова все смешивается в лихорадочном сне.