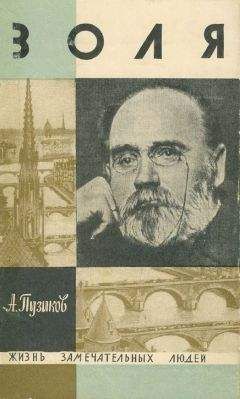К ноябрю 1897 года Золя знает уже много подробностей о «деле». Композитор Альфред Брюно, вспоминая об этом времени («В тени большого сердца»), говорит, что Золя имел тогда «отчетливое представление о драме, которая перевернула его собственную жизнь». Еще в июле становится известной позиция Шерера-Кестнера, который принял адвоката Леблуа и решил идти против течения. В ноябре Золя и сам встречается с Шерером-Кестнером, а также с журналистом Бернаром Лазаром, адвокатом Луи Леблуа, братом осужденного — Матье Дрейфусом, историком Жозефом Рейнахом. Недаром Золя столько лет вырабатывал свой метод собирания материалов.
Сейчас речь шла не об очередном романе, а о жизни человека, о справедливости, о чести Франции, о ее будущем. Золя интересует каждая подробность «дела». Он желает взвесить все «за» и «против», чтобы на что-то решиться. Вот что пишет он Шереру-Кестнеру 20 ноября 1897 года:
«Милостивый государь!
Я испытываю настоятельную потребность крепко пожать Вам руку. Вы не можете себе представить, насколько я восхищен Вашим великолепным поведением, исполненным спокойствия под градом угроз и низкой брани. Нет более прекрасной роли, чем избранная Вами, — что бы ни произошло в дальнейшем, и я Вам завидую.
Я еще не знаю, что буду делать. Но до сих пор ни одна человеческая драма не вызывала во мне такого сильного душевного волнения».
Но Золя уже знал, что ему делать. Через пять дней после этого письма газета «Фигаро» опубликовала его статью «Господин Шерер-Кестнер». То была первая статья Золя в защиту Дрейфуса и в защиту его защитников. 1 декабря появилась статья «Синдикат», 5 декабря — статья «Судебный процесс». Золя начал еще одну кампанию, самую трудную. Напуганная ростом антидрейфусарских настроений «Фигаро» отказалась печатать следующие статьи, и Золя должен был обратиться к издателю Фаскелю. 14 декабря отдельной брошюрой выходит его статья «Письмо к юным». В маленьком предисловии к ней Золя позднее писал: «Не видя в то время ни одной газеты, которая согласилась бы печатать мои статьи, и желая к тому же оставаться вполне независимым, я решил продолжать борьбу изданием ряда брошюр».
Еще недавно, две-три недели назад, жизнь Золя, казалось, текла по своему обычному руслу. Газета «Журналь» с сентября начала печатать «Париж», в конце ноября он проводил на три недели в Италию Александрину, в свободные дни обедал у своих родственников Лаборд и еще спокойно беседовал с друзьями о деле Дрейфуса. Золя и не подозревал, какая ненависть к нему закипала у сбитой с толку толпы. 20 декабря он вновь оказался на траурном митинге — теперь по случаю смерти Альфонса Доде, четвертого участника «обедов пяти». Здесь присутствовал и Леон Доде. Золя трогательно обратился к нему, как к сыну своего друга, которого он помнил еще с колыбели. Увы, молодое поколение, подобное антидрейфусару Леону Доде, уже начало свое гнусное дело.
«Куда вы идете?.. Быть может, вы спешите выразить негодование беззаконием… Нет, мы идем, чтобы ошикать человека, старика, который после долгих лет труда и честного исполнения долга вообразил, что может безнаказанно отстаивать правое дело…» Это было написано в защиту Шерера-Кестнера, а через несколько дней зазвенели стекла разбитых окон на Брюссельской улице, где жил Золя.
. . . . . .
Эстергази все же отдали под суд, и дело его началось слушанием 4 декабря 1897 года. Но в какой обстановке! Газеты, даже такие, которые Золя когда-то уважал, — «Эко де Пари», «Пти журналь», — подняли грязную кампанию против одиноких дрейфусаров, всячески выгораживая Эстергази и превращая его чуть ли не в мученика. «Письмо к Франции», напечатанное также отдельной брошюрой, должно было рассказать правду о «деле», открыть глаза обманутым, предупредить о позоре, который ждет каждого, кто сегодня попирает истину и справедливость. Дело Дрейфуса, по мнению Золя, далеко переросло защиту одного Дрейфуса — невинного человека. «Дело Дрейфуса, хотя и печальный, но частный случай». И, обращаясь к Франции, он продолжает: «Страшное откровение явилось в том, как ты повела себя в сложившейся обстановке… Час пришел, и вышли наружу все твои политические и общественные недуги…» «Письмо к Франции» опубликовано 6 января 1898 года, за неделю до появления знаменитого «Я обвиняю».
С выступлением Золя дело Дрейфуса приобретает иной характер. Золя защищал не только Дрейфуса, капитана французской армии, еврея, честного человека, а, как он сам говорил, «защищал истину», защищал всех тех, кто мог бы так же невинно пострадать, защищал закон от произвола, права каждого человека от покушения на них.
«Дел», подобных этому, во Франции было полным-полно. Осуждение невинного, факты необъективности расследований были известны буржуазному суду и раньше. Но за делом Дрейфуса крылась ожесточенная борьба определенных кругов буржуазии, которая могла кончиться поражением демократии и крахом республики. Боролись банки, старые и новые, еврейские и католические. Все средства в этой борьбе были хороши, в том числе и антисемитизм. И хотя лишь ничтожная кучка евреев была связана с финансовым капиталом, антисемитизм обрушился на все еврейское население Франции. Недавняя история с Панамой также сыграла свою роль. Утверждали, что евреи объединены, хорошо организованы, что это некий «синдикат», орудующий во вред французам. Раздувался оголтелый шовинизм. Весь мир делился на французов и нефранцузов. Среди нефранцузов особой ненависти удостаивались немцы и евреи. «Дело» было нужно реакции, и Золя хорошо это понимал. Вот почему он предупреждал французов: «Дело Дрейфуса раскрыло грязную парламентскую кухню, — постыдное разоблачение, которое может стать роковым для французского парламентаризма». Золя посмотрел на «дело» с широких и прогрессивных позиций, и это повлияло на развертывание событий.
Золя был подготовлен к «делу» и психологически. Последние годы он думал о прожитой жизни, и им овладевали некоторые сомнения и запоздалые сожаления. Наступала старость, а жизнь, которую он так ярко изображал в своих произведениях, оставалась где-то в стороне. В конце концов он знал ее лишь как ученый, как художник, а не как простой смертный. Слишком благополучен и буржуазен стал его дом, а умственная творческая напряженность хотя и приносила радость, но иссушала мозг и тело. Об этом он не раз говорил своим друзьям, а в речи на похоронах Мопассана с завистью отметил: «Меньше чем от кого бы то ни было разило от него чернилами… Нас, чья жизнь была целиком поглощена литературными заботами, это немного удивляло. Но теперь мне думается, что Мопассан был прав — жизнь стоит того, чтобы прожить ее ради нее самой, а не только ради работы. Да и познать жизнь можно, лишь живя ею».