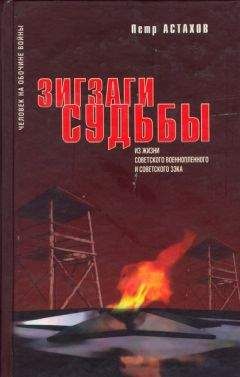– А уж мы отблагодарим, – подло подмигивали чекисты.
Возили на пляж, подзывали девушек, предлагали ему вот сейчас идти в свое село, а назавтра написать раскаяние и больше не возвращаться в лагерь.
Сапеляк отказался выходить из машины.
– А, так ты и с лавочниками имел дело! – гремел на него кагебешник.
– С какими лавочниками? – не понял Степан.
– Да с евреями, с этими изменниками! – и лицо чекиста исказилось от ненависти.
От промывания мозгов у Степана страшно поднялось давление крови, но «врачи» лечить отказывались, только смотрели на него молча совиными глазами.
Нежелание «раскаяться» повлекло за собой новые гонения: ежемесячно паренька бросали в карцер, а теперь отправили во Владимир.
В карцере он поворачивался спиной к входящему чекисту Черняку, и тот озверело выкрикивал:
– Высушу так, что камни будешь в карманы класть, чтобы ветром тебя не унесло!
По три-четыре раза в день Сапеляка в карцере раздевали догола, рылись в его белье. Бдительность!
– А вы не боитесь, что я в это время убегу? – как-то спросил голый Степан у мента, с головой ушедшего в его кальсоны.
– Нет, я же сквозь ширинку за тобой наблюдаю, – серьезно ответил ментовский голос из кальсон.
* * *
В начале июля 1976 года меня внезапно прямо с работы сняли на этап. Едва успел попрощаться на ходу с друзьями. На вахте оказался вместе с Ашотом Навасардяном.
Гадаем, куда это нас. Может быть, в Пермскую тюрьму? После сверхусиленного обыска всю мою одежду заменяют на новую, со склада. Боятся выхода информации. Если б могли, то и тело выдали бы новое, и душу. Все бумажное до последнего клочка забирают на проверку.
В воронке – слой пыли в палец толщиной. Жара, пылища лезет в нос. Последний раз трясусь по ухабам.
После ночевки в Пермской тюрьме нас разлучают. Тайно удалось проведать, что его везут в Ереван, а я еду на Украину. Из Перми меня почему-то отправляют в Казанскую тюрьму. Глухая треугольная камера без окон и отдушин. Менты открывают кормушку, чтобы хоть из коридора проникал спертый воздух. Параша. Нет умывальника. Вода – на вес золота. Удушливый жар, хожу по пятачку полуголый. Тюрьма переполнена. Некоторые надзиратели расспрашивают о политических, с пониманием слушают о борьбе за национальное освобождение. Сказывается татарский колорит.
Еще в 36-ом лагере политзаключенные так повлияли на одного надзирателя-татарина, что тот начал тайно передавать в карцер еду и демонстративно перестал ходить на ментовские политзанятия.
Из Казани везут в Харьков. Все мои вещи отбирают на склад. Ведут в баню, но не дают полотенца.
– И так обойдешься! Потом выдадим!
Благо, что сейчас лето…
Этническая граница Украины из вагона видна отчетливо.
Сначала между покосившихся, почерневших бревенчатых изб начинают попадаться беленькие хатки. Потом их становится все больше, кругом зеленеют садики, палисадники, ухоженные, обильные огородики, аккуратные красивые клумбы, цветники. Вместе с мягким «г» в говорке за окном чувствуется какой-то иной дух, придавленный, но не убитый.
При отъезде из Харьковской тюрьмы конвой обнаруживает в моем чемодане еврейский календарь, выпущенный официально, с разрешения властей, Московской синагогой.
Я поднимаю скандал. После некоторых колебаний календарь мне возвращают. Но победу я торжествовал рано. В вагоне другой конвой. Белобрысый охранник подозрительно смотрит в мою клетку.
– Ты что, политический?
– Да.
Он кивает своим:
– Обыскать! Хорошо обыскать! Календарь отбирают.
– А, евреи, всех их надо вешать! – с ненавистью орет конвоир.
– Хельсинкская Декларация гарантирует религиозные права! Брежнев подписывался под ней! Верните мой календарь. Он выпущен в СССР с разрешения соответствующего министерства, это напечатано на обложке.
– А мне плевать на все на это! У меня есть инструкция, где напечатано черным по белому: «Изъятию подлежат ножи, деньги и литература религиозного характера!» Вот, свеженькая! Я подчиняюсь инструкции, а не декларациям! Понял?
Чего же тут не понять. Декларация – для легковерного Запада, а инструкции противоположного содержания – для ментов, чекистов и и конвойных. Каждому свое. Ведь ни один из бесчисленных верующих не был освобожден из лагерей после Хельсинки. Даже баптисты, единоверцы Картера, так по-настоящему и не легализованы. По дороге в Днепропетровск от грязи и лежанья на голой трясущейся деревянной полке у меня на голове вспухает какая-то мягкая гуля. Она не проходит. К врачу обращаться боюсь – уж лучше дождусь освобождения. После выхода из тюрьмы выяснилось, что это атерома, пришлось делать операцию, вырезать. Случай был запущенный, начиналось нагноение.
В Днепропетровской тюрьме меня бросили в одну камеру с уголовником, где день-деньской орало невыключаемое радио. Голова раскалывалась. Письмо с предупреждением родителям, чтобы не ехали встречать меня на далекий Урал, взять отказались. Я объявил голодовку. На третий день голодовки не встал перед ментом, и он ударил меня за это сапогом. Хотя след от удара сохранялся долго, мента не наказали, жалобу о побоях никуда не отправили. Это норма.
Лишь на четвертый день меня перевели в одиночную камеру с поломанной радиоточкой, и я избавился от оглушительного промывания мозгов от подъема до отбоя. Письмо тоже взяли. Вынос из тюрьмы на носилках был нежелателен…
Однако равно нежелательным оказался и мой выезд. Враги понимали, что я видел и пережил слишком много. После выхода из тюрьмы мне назначили надзор. Это почти равносильно домашнему аресту, который можно без суда продлевать до бесконечности. С вечера до утра запрещено выходить из дому. Запрещено посещать кафе или рестораны. Запрещено выезжать из города. Каждые десять дней – отмечаться в милиции. Такая «свобода» ждала меня после лагеря.
– Никто вас отсюда не выпустит, выбросьте это из головы, – внушал мне начальник Павлоградской милиции Петренко.
Мне грозили судом за «тунеядство» и одновременно звонили на предприятия (обычные, гражданские, без секретности), предписывая не принимать меня на работу. Потребовалось колоссальное давление извне и собственная решимость, вплоть до бессрочной голодовки, чтобы стена дала трещину. О том, сколько крови стоил каждый шаг на пути к Израилю, можно написать отдельную книгу. Сначала даже документы на выезд принимать отказывались, не желали рассматривать вопрос.
* * *
Мне удалось познакомиться с поднадзорным Виталием Калиниченко, бывшим политзеком, первым статусником. Калиниченко впервые явочным порядком перешел на статус политзаключенного, отказавшись от рабского труда и выполнения унизительных требований режима. За это он прошел все круги ада: от бесконечного карцера до психушек с пыточными серными уколами, причиняющими невыносимую боль. Сейчас он живет под надзором по адресу: Днепропетровская область, с. Васильковка, ул. Щорса 2. Он хочет эмигрировать, но не имеет даже вызова. Его преследуют, не дают вздохнуть, не хотят выпускать как украинца.