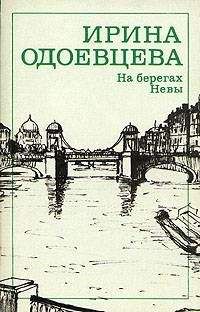«Кирпич в сюртуке», как его называют. Но он не похож на кирпич. Кирпич красный. И грубый. А он беломраморный и барственный, как вельможи времен Екатерины Великой. Он скорее напоминает статую. Надгробную статую. Каменного Гостя. Памятник самому себе.
Он слушает с отсутствующим видом, застыв в собственном величии и никак нельзя понять, нравится ему или нет.
Но большинству слушателей, я чувствую, стихи Гумилева совсем не нравятся. Это не только равнодушная, это враждебная аудитория.
Правда выбор стихов неудачен. Гумилев, как будто нарочно, читает то, что должно вызвать здесь в Москве, отталкивание: «Душа и тело», «Персидскую миниатюру», «Молитву Мастеров», «Перстень»…
Нет, всего этого здесь читать не надо было. И в особенности — «Либерию». Зачем? Зачем он читает эту «Либерию»?
Но Гумилев не замечает, вернее не хочет замечать настроения слушателей. Он торжественно произносит:
Вы сегодня бледней чем всегда,
Позабывшись вы скажете даме
И что дама ответит тогда
Догадайтесь, пожалуйста, сами.
— Ответит то же, что и мы: дурак! — раздается звонкий театральный шопот.
Это Бобров. Все слышали и почти все смеются.
Я холодею от ужаса.
Гумилев не мог не слышать звонкого, хлесткого «дурак» брошенного в него. Что он ответит? Неужели афоризм Сологуба — «Где люди, там скандал», получит здесь подтверждение?
Но Гумилев еще выше поднимает голову и гордо смотрит прямо перед собой поверх слушателей на стену, рот его растягивается широкой, самодовольной улыбкой — будто он принял смех, за одобрение. Ведь действительно смешно сказать негритянке, что она бледна, как тут не рассмеяться?
И он спокойно продолжает:
То повиснув на тонкой лозе,
То запрятавшись в листьях узорных,
В темной чаще живут шимпанзе
По соседству от города черных…
— Притворяется, что не слышал, — шепчет Бобров. — И вы тоже делаете вид, что не слышали, как смеются над вашим мэтром. Слушайте его внимательно, восхищайтесь, наслаждайтесь.
Я ничего не отвечаю. Он наклоняется ко мне:
— А лучше послушайте-ка стихи тоже обращенные к негритянке и тоже о негритянских странах — и начинает читать, прекрасно выговаривая:
Mon enfant, ma soeur
Pense a la douceur
D'aller vivre ensemble…
Я прижимаю палец к губам. — Молчите! Перестаньте!
Гумилев кончил, встает и кланяется. Жиденькие аплодисменты, я напрасно отбиваю себе ладони, стараясь «подогреть аудиторию». У нас в Петербурге это безошибочно удается. Я в этом деле «спец», меня в Цехе так и называют «мастер клаки».
Надо почти пропустить первую волну аплодисментов, вступить в нее, когда она уже начинает падать, вступить с бешеной энергией и этим вызвать овацию.
Но здесь мои расчеты не оправдываются. Мало кто следует моему примеру. Слушатели шумно спешат к выходу, как ученики после скучного урока.
Я растерянно остаюсь на своем месте. Гумилев подходит ко мне. Весь его вид свидетельствует о том, что вечер прошел, как нельзя лучше, и он очень доволен и рад.
— А вас ждет приятный сюрприз, — говорит он мне улыбаясь. — Мы сейчас отправимся с Федором Кузьмичем и Анастасией Николаевной к Пронину. Он и вас пригласил, — широкий жест в сторону — Позвольте вам представить Бориса Константиновича Пронина.
И сразу из-под протянутой руки Гумилева, как из под земли, появляется Пронин.
Так вот он какой: Пронин — перпетуум мобиле, Пронин — громокипящий кубок несбыточных проектов, Пронин — муж знаменитой Веры Александровны — «la maitresse du chien» и сам хозяин «Бродячей Собаки» — иллюзионист Пронин.
Внешность — обыкновенная. Без особых примет. Но до чего он симпатичен. Он энергично и «задушевно» трясет мою руку и в порыве дружеских чувств как вихрь налетает на меня, чуть не сбивая меня с ног. Вот, вот он заключит меня в объятия и прижмет к своему любящему сердцу. Я отступаю на шаг.
Но до объятий все же не доходит. Он неожиданно кончает восторженную тираду вопросом: — Надеюсь вы не откажетесь осчастливить меня своим посещением?
И я «конечно» не отказываюсь.
А он уже, расталкивая встречных, летит размахивая руками к Сологубу, почтительно и шумно приветствуя его.
— Что, огорошил он вас? — спрашивает Гумилев. — К нему надо привыкнуть. Милый, но неправдоподобный человек. Весь разрывается от жажды деятельности. Если такую энергию к чему-нибудь путному приложить, мир перевернуть можно. Пойдемте в буфет, выпьем чаю.
И мы идем. Гумилев оглядывается.
— А этот рыжий уж опять тут, как тут. Как тень за мной ходит и стихи мои себе под нос бубнит. Слышите?
Я тоже оглядываюсь. Да, действительно, — огромный рыжий товарищ в коричневой кожаной куртке, с наганом в кобуре, на боку, следует за нами по пятам, не спуская глаз с Гумилева, отчеканивая:
Или бунт на борту обнаружив
Из-за пояса рвет пистолет
Так, что сыпется золото с кружев
С розоватых, брабантских манжет…
Гумилев останавливается и холодно и надменно спрашивает его:
— Что вам от меня надо?
— Я ваш поклонник. Я все ваши стихи знаю наизусть, — объясняет товарищ.
Гумилев пожимает плечами:
— Это, конечно, свидетельствует о вашей хорошей памяти и вашем хорошем вкусе, но меня решительно не касается.
— Я только хотел пожать вам руку и поблагодарить вас за стихи, — и прибавляет растерянно — Я Блюмкин.
Гумилев вдруг сразу весь меняется. От надменности и холода не осталось и следа.
— Блюмкин? Тот самый? Убийца Мирбаха? В таком случае — с большим удовольствием. — И он улыбаясь пожимает руку Блюмкина. — Очень, очень рад…
Вернувшись в Петербург Гумилев описал эту сцену в последнем своем стихотворении: «Мои читатели»
Человек среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи…
Кстати, читая мне это стихотворение он особенно веско произнес:
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше…
Он взглянул на меня и улыбнулся.
— Вот видите — так улыбаться, как я сейчас улыбаюсь. Это я о вас писал.
Но я не поверила и рассмеялась.
— Обо мне и многих других в прошлом, настоящем и будущем. Ах, Николай Степанович, ведь это вздор.
Я тогда была невестой Георгия Иванова. Гумилеву не хотелось, чтобы я выходила замуж. Он старался меня отговорить. Не потому, что был влюблен, а потому, что не хотел, чтобы я вышла из сферы его влияния, перестала быть «его ученицей», чем-то вроде его неотъемлемой собственности.