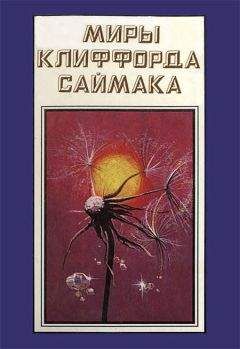Я надел рубашку и красные брюки, вернулся в спальню и упал на кровать. Через некоторое время я почувствовал сильную слабость и потерял сознание. Не знаю, как долго я оставался в таком состоянии, но открыв глаза, увидел хозяйку дома, служанку, и двоих солдат из тех, кто поселился раньше меня. До них дошёл слух, что со мной что-то случилось, но это была лишь сильная слабость, вызванная горячей ванной, перенесёнными страданиями и усталостью.
Мадам Жантиль – так звали эту даму – покормила меня бульоном, поддерживая мою голову левой рукой. Я не сопротивлялся – давно уже за мной так не ухаживали. Мадам Жантиль была удивительно красива: стройная, изящная, тёмные глаза, цвет кожи, как у красавиц из северных провинций. Ей исполнилось двадцать четыре года, я слышал, что она замужем за французом – она подтвердила, что так оно и есть. Она рассказывала:
– В 1807 году из Данцига[106] в Элбинг пришёл большой обоз раненых французов. Поскольку мест в больнице уже не было, новоприбывших расквартировали среди местных жителей. А у нас поселили раненого пулей гусара. А ещё у него на левой руке была рана от сабельного удара. Моя мать и я ухаживали за ним – вскоре он поправился.
– А потом, – сказал я, – в знак благодарности за заботу, он женился на вас.
Смеясь, мадам Жантиль ответила, что это правда. Я сказал ей, что поступил бы точно так же, потому что она – самая красивая женщина из всех, которых я когда-либо видел. Мадам Жантиль засмеялась, слегка покраснела и сказала, что мы ещё побеседуем попозже. Потом я заснул и не просыпался аж до девяти часов утра.
Проснувшись, я некоторое время не мог понять, где я нахожусь. Вошла мадам Жантиль, за ней служанка с кофе, чаем и булочками. Давно уже у меня не было такого праздника! Я забыл прошлое, я думал только о настоящем и мадам Жантиль. Я даже забыл про моих товарищей.
Мадам Жантиль внимательно посмотрела на меня. Затем, погладив меня по лицу, она спросила меня, что случилось. Я ответил, нет, ничего, все хорошо.
– Не очень, – сказала она, – у вас лицо опухло.
Затем она сообщила мне, что вчера приходил унтер-офицер Императорской Гвардии и интересовался, не живёт ли тут унтер-офицер. Она ответила, да, есть один, и провела в его комнату, но тот сказал, что это не тот человек, которого он ищет и ушёл.
В этот момент в комнату вошёл мой друг Гранжье и сказал:
– Прошу прощения, но я уже второй день ищу одного из моих товарищей и никак не могу найти. Но именно эта улица и номер дома указаны в его ордере.
– Вы, конечно, меня ищете, не так ли? – спросил я.
Гранжье расхохотался. Он не узнал меня. И не удивительно. Я был выбрит и с опухшим лицом. После вчерашней горячей ванны я стал чист, как белый лебедь. На мне было чистое льняное белье, меня подстригли и причесали. Гранжье рассказал мне, что уже приходил сюда, но, увидев красные брюки на стуле, он ушёл, будучи убеждённым, что ошибся адресом. Кроме того, он сообщил, что на три часа объявлена перекличка Гвардии, поэтому каждый обязан явиться на сбор. Гранжье обещал зайти за мной.
В полном соответствии со своим обещанием, он вернулся в два часа вместе с моими товарищами. Увидев меня, они так расхохотались, что из их бедных, потрескавшихся от мороза губ, пошла кровь.
Я приятно удивил их, угостив старым рейнским и маленькими пирожными, которыми нас угостила мадам Жантиль. Она была очень заботлива и делала все, чтобы доставить мне удовольствие. Я поинтересовался её мужем, добавив, что, поскольку он француз, мне было бы исключительно приятно познакомиться с ним и выпить с ним по бокалу вина. Она отвечала, что он уехал на несколько дней, и сейчас далеко отсюда. Вместе с отцом он уехал на Балтику по торговым делам. Муж мадам Жантиль закупал крупные партии фруктов, а потом доставлял в Санкт-Петербург.[107]
24-е декабря. В три часа мы собрались на большой площади перед дворцом, в котором разместился Мюрат. Я увидел адъютанта майора Рустана, он подошёл и поинтересовался, кто я такой. Я засмеялся.
– Ну и ну! – воскликнул он, – неужели это вы, Бургонь? Черт меня подери! И не скажешь, что вы пришли из Москвы, такой вы большой, толстый и бодрый. А где ваша борода?
Я ответил, что она пропала.
– В таком случае, – ответил он, – я вынужден посадить вас под арест до тех пор, пока она снова не отрастёт.
На этой первой перекличке присутствовало немного людей. Мы были счастливы вновь встретить друг друга, поскольку17-го декабря, в Вирбаллене, едва успели и парой слов перекинуться. Каждый пришёл сюда сам, своей собственной дорогой.
Следующие дни прошли аналогично – каждый день сбор и перекличка. На четвёртый день мы узнали о кончине одного из старших офицеров Молодой гвардии. Он умер от горя, узнав о трагической гибели французской семьи, проживавшей в Москве, которая ушла из Москвы вместе с армией, чтобы быть с ним. Я уже рассказывал о её ужасной судьбе.
29-го декабря я чувствовал себя уже значительно лучше. Лицо приняло прежнюю форму, правая нога пошла на поправку, рука тоже, – а все благодаря мадам Жантиль, заботившейся обо мне, как о ребёнке. Приехал её муж, буквально на пару дней – ему необходимо было встретиться со своим крестным – он руководил отправкой товара в Россию. После нашего ухода торговые связи с этой страной возобновились. Муж мадам Жантиль рассказывал мне, что три года прослужил в Третьем гусарском, но после двух тяжёлых ранений у Данцига, его отправили в отставку по инвалидности. Однако он предпочёл остаться в этой стране и завести дом и семью. Здесь он приобрёл много друзей, а в Шампани – на своей родине, он бедняк – там у него ничего нет.
На следующий день, 30-го декабря, я и Гранжье отправились с визитом к храброму Пикару, который, по словам друзей, сильно заболел. Гренадер, который жил там же, сообщил нам его адрес.
Мы пришли. Какая-то женщина в траурном платье, с меланхолическим выражением лица, показала нам его комнату. Мы прошли длинным коридором до самого конца. Дверь в комнаты Пикара была слегка приоткрыта. Мы остановились, чтобы послушать, как своим глубоким басом Пикар поёт свой любимый куплет из «Cure de Pomponne».
«Ah! tu t’en souviendras, la-ri-ra,
Du depart de Boulogne!»
«Ах! А помнишь ли ты, ла-ри-ра,
Отъезд из Булони!»
(перевод мой. – В.П.)
Нас потряс его вид – лицо белое, как снег, более напоминало маску, чем лицо живого человека. Он рассказал нам о своей болезни, при этом называя себя «салагой» и «старым дураком».