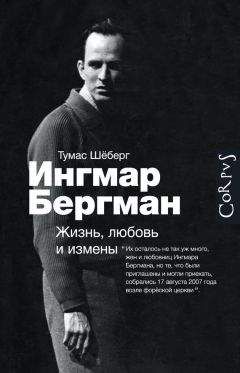Вероятно, чтобы заглушить угрызения совести, Ингмар Бергман вызвался затем оплатить отцу реабилитацию в Софийском приюте, но пастор отказался, наверно, самолюбие не позволило. Он хотел как можно скорее вернуться домой.
Разговоры с матерью по телефону часто кончались тем, что Ингмар швырял трубку и конец вечера был испорчен. Часто он снова звонил матери, снова с ней ссорился и звонил третий раз, чтобы попросить прощения. Не умел бунтовать, не чувствуя вины.
После одного из его редких визитов на Стургатан родители были огорчены и обижены отчужденностью.
Он отошел от нас так далеко, как только возможно, и холодно наблюдает, а в остальном до крайности эгоцентричен. Я лучше понимала его, когда он был одинок и почти непонят. […] Я думаю о своих странных отношениях с Ингмаром и ужасно хочу, чтобы мне удалось приблизиться к нему.
Вот так все и продолжалось. Непомерная гордыня и нарушенные обещания. Временами позиционная война прерывалась случайными перемириями. Как, например, когда Ингмар Бергман пришел на послеобеденный чай у камина в салоне и они имели возможность спокойно побеседовать. Карин поняла, что брак с Кэби Ларетай забирал у него все свободное от работы время.
Теперь и Кэби ждет ребенка, и они, кажется, очень этому рады. Позднее я постараюсь никогда больше ничего от Ингмара не ждать. Но, по его словам, а звучат они правдиво, со мной и с Эриком его соединяют крепкие узы, и он нас понимает.
Потом они иной раз не виделись месяцами, и Карин Бергман мечтала встретиться с сыном.
Пусть все будет хорошо, когда мы увидимся! […] Кстати, в газете опять большой анонс об Ингмаре. Я прямо-таки боюсь этой писанины. Только бы все не кончилось кошмаром! Я имею в виду огромную пустоту и в итоге молчание.
В ноябре Эрик Бергман предложил жене больше не обращать внимания на сына, но уже месяцем позже они радостно встретились в юрсхольмской вилле на крестинах малыша Даниеля. После крестин Карин Бергман в лирическом настроении записала:
В большом музыкальном салоне все было устроено очень красиво – высокая елка с зажженными свечами, а рядом крестильный столик. […] Обстановка просто замечательная, и нам понравились родители Кэби, сестра и зять, все прошло превосходно. Кэби выглядит намного жизнерадостнее, и оба счастливы своим красивым домом. Повсюду лежал белый снег, а когда Ингмар вез нас обратно в город, в домах горели елочные огни.
Конфликты между Ингмаром Бергманом и родителями и резкие метания в его личной жизни были настолько обычны, что однажды он счел нужным уже в начале письма попросить их не удивляться: “Я пишу не затем, чтобы сообщить о каком-нибудь злоключении, внезапном решении или вроде того. Пишу просто потому, что все в полном порядке, а вдобавок вы, по-моему, давненько не получали писем от своего сына”. Это письмо он написал во время поездки в Данию с дочерью Леной. Им было очень хорошо, они жили в Хельсингёре в “Мариенлюсте”, похожем на собор отеле и казино с видом на Эресунн, и Бергман “жутко” тосковал по Кэби и Даниелю.
Эрик и Карин Бергман наверняка облегченно вздохнули.
Третий фронт, на котором воевал Ингмар Бергман, был в собственной семье. Еще в 1958 году в одном из писем к Ларетай он писал, что никогда не верил в счастье, в любовь или в подобные слова. Напротив, он ими злоупотреблял, использовал их “в самых странных обстоятельствах”. Теперь, когда они женаты, он мог полностью наплевать на то, как его воспринимает жена. Мог пойти на концерт в шерстяном свитере и неглаженых брюках, хотя эстетку Ларетай это раздражает. К себе домой он никого не приглашал и сам приглашений не принимал. А что, по ее мнению, хуже всего: он не скрывал приступов агрессии. Мог разозлиться и откровенно, без прикрас высказать свою позицию. Самое настоящее культурное столкновение. В семье Ларетай никому в голову не приходило хлопать дверью или стучать кулаком по столу.
Такое впечатление, что куда легче быть влюбленными и тосковать друг по другу в письмах, а не в реальности. В “Волшебном фонаре” Бергман пишет, что они говорили обо всем, большом и малом, но в действительности не имели общего языка. А в “Образах” он пишет: чем очевиднее становилось, что постановка, которую они так старались осуществить, выдыхается, тем больше оба пытались подправить ее этакой вербальной косметикой.
В январе 1961 года Бергман написал довольно длинное письмо, которое начал с рассказа, как меланхолия и тоска по жене заставили его искать утешения в онанизме. Но дело неизменно кончалось “унылым спадом, ведь возбуждение было принужденным и не приносило ни малейшего наслаждения и удовольствия”. Он нервничал, пал духом и чувствовал себя отвратительно. Изнывал от страха перед одинокими, бессонными ночами. Боялся призраков и пугался собственных криков, “словно исторгнутых из бездны и горя”. Держался он лишь благодаря сознанию, что жена скоро вернется к нему.
Многое здесь кажется театральным, и легко согласиться с Бергманом, хотя по части вербального реквизита у него явно некоторый перебор. Вполне допустимо предположить, что как раз бурный словесный поток, риторика, как бы гипнотизируя контрагента, поочередно спасали его от разных затруднений и в итоге он развил в себе способность постоянно быть прощенным и оправданным.
Когда в 1963 году ему предложили возглавить Драматический театр в Стокгольме, то есть перед ним вставала самая престижная культурная задача в стране, он спросил у жены, что она думает. Она высказалась достаточно ясно: “Я знаю, ты согласишься. И думаю, это станет началом конца нашего брака”.
Как выглядела повседневная жизнь в семье, где каждый из родителей достиг в своем искусстве таких высот? В их спальне весь пол был затянут желтым ковром. Ингмар Бергман поначалу выказал недовольство, но позднее постелил такой же ковер в своем кабинете, где все чаще ночевал. Между кабинетом и спальней они устроили “примирительную комнату” с дверью на балкон. Там они спокойно вели дискуссии и улаживали недоразумения, пишет Кэби Ларетай в своих воспоминаниях. Когда приезжала погостить Линда, спокойствие оборачивалось хаосом. Дочка носилась по дому и устраивала тарарам, и, если Ингмара Бергмана заблаговременно не предупреждали, гостья ему мешала. “Я убью того, кто смеет мешать мне, когда я пишу”, – мог сказать он.
В браке со знаменитым режиссером были особые стороны, и дело тут не только в его темпераменте. Он навлекал на себя общественное недовольство, проникавшее в самую сердцевину их жизни. Ларетай выслушивала по телефону брань и анонимные угрозы по ее и Ингмарову адресу. После премьеры “Источника” по почте пришло письмо с использованной туалетной бумагой. После “Молчания”, тоже весьма спорного ввиду сложной сексуальной темы, ее преследовала слава жены человека, который сломал сексуальные табу. В Германии пресса развлекалась словесными играми насчет “молчание – золото”. Бергман, утверждали тамошние газетчики, сколотил состояние, спекулируя на сексуальных табу, а Ларетай, стало быть, извлекала из этого золота выгоду.