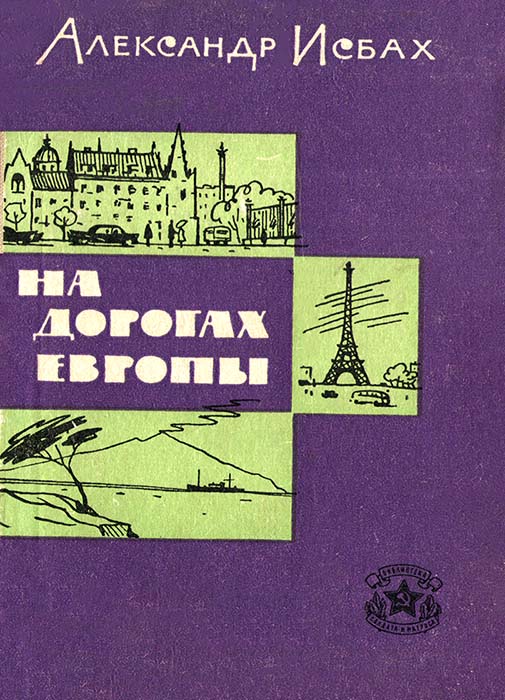птенцы его по всем республикам Советского Союза, и вскоре отовсюду — из Средней Азии, с Крайнего Севера, с гор Дагестана, из солнечной Молдавии — приходят на адрес «дяди Володи» тоненькие книжечки — первые книжечки стихов его питомцев. С такими искренними и горячими словами посвящений, которые помогают поэту-учителю и жить и творить.
— Вот, Саша, главная гордость моя, — говорит Луговской, показывая мне два шкафа, полных книг во всевозможных обложках. — Творчество детей моих и внуков… Да, и внуков…
Ведь Долматовский, Луконин, Смирнов, Яшин сами уже «мэтры», сами воспитывают молодежь. Здесь и первая тоненькая поэма Кости Симонова «Павел Черный» («Ты помнишь эту, еще довольно-таки слабенькую поэму?»), и собрание сочинений Константина Михайловича Симонова… Здесь и тонюсенькая книжечка Маргариты («Ты помнишь, как читала она всегда стихи, смущенно прикрывая лицо руками?»), и «Избранное» Маргариты Иосифовны Алигер, одной из ведущих наших поэтесс…
Здесь и павшие в боях. Кульчицкий. Коган.
Здесь и другие поколения. Гамзатов. Винокуров. Слуцкий.
Здесь и совсем юные… Вот Зоя Габоева… Вот Юнна Мориц…
— Знаешь, Саша. Иногда мне кажется, что я сильно постарел. Дамасские кинжалы больше не волнуют меня. А в редкие свободные вечера я подхожу к этим шкафам, вынимаю одну за другой книжки… И вся моя жизнь проходит передо мною. С радостями и горестями, с ее взлетами и падениями. Всякое бывало. И я листаю эти книжки, толстые и тонкие, и я снова молодею, и мне снова хочется жить. Тебе знакомо это чувство?
Да, мне знакомо это чувство, Володя. Милый, седой и всегда молодой Володя, старинный друг мой…
Находились в нашей среде люди, которые упрекали Луговского:
— Старик, тебе надо больше подумать о себе, о своих новых книгах. Ты ведь уже далеко не юноша. А ты растрачиваешь свое время на других.
Луговской негодовал.
— В каждом из них, молодых, — мое сердце. Может быть, я напишу меньше на одну свою книгу и сумею помочь выходу пяти книг замечательных питомцев моих… Сочтемся славою…
Не раз по почину Луговского, а в былые дни еще и замечательного воспитателя молодежи Михаила Григорьевича Огнева, писали мы гневные письма и статьи в защиту Литературного института, в защиту «лицея» нашего, на самое существование которого вот уже тридцать лет беспрестанно посягают противники его.
Луговской был воспитателем добрым, но суровым. Иногда после его семинара молодые поэты выходили как из бани… Красные, взъерошенные, пропаренные, что называется, до костей. Но никто не обижался на Луговского. Знали, что за судьбу настоящих талантливых людей он будет бороться, принципиально, настойчиво, до конца.
Когда в одном из украинских издательств пытались перекроить книгу молодой поэтессы Юнны Мориц, с протестом выступил и Володя Луговской…
Я знал о том, как перегружен Володя. В последние годы он опять и много ездил и много писал. Это был замечательный взлет его творчества, орлиный взлет, за которым все мы следили с надеждой и радостью. И все же, когда созданы были Высшие литературные курсы, я упросил Володю принять участие в их работе, взять руководство еще одним творческим семинаром, семинаром самым трудным, в котором объединились поэты разных национальностей.
Он согласился. Он любил работать с поэтами разных республик, приносящих в литературу воздух своей страны — ледяной Чукотки и знойного Таджикистана. Он много переводил и друзей своих и учеников. Многие, многие ныне маститые поэты наших республик не забудут своего заботливого, строгого, сердечного и терпеливого учителя.
Проходишь, бывало, мимо аудитории, где занимается Луговской, и слышишь разноязычный говор его учеников. Он требовал прежде всего (не доверяя подстрочникам) прочесть стихи в оригинале. Веселый смех, могучий бас «мэтра»… И сердце радуется. Живы наши традиции, жив замечательный «лицей» наш, жив «дядя Володя»…
В последний год жизни Луговского (последний… Как горько писать это слово!) мы жили в Доме творчества, в Переделкине. Он работал над книгой «Середина века»… Он был уже тяжело болен. Но работал страстно, неудержимо. Он боялся не успеть. У него было много замыслов. Я никогда не видел его в состоянии такой «одержимости». Любитель поговорить с друзьями, «потрепаться», он запирался в своей узкой келье (№ 13) и писал, писал, писал. Днем и ночью.
И сюда приезжали молодые поэты. Их принимал он всегда. С сожалением отрывался от рукописей своих и слушал в саду, на скамеечке, их стихи, входил во все их нужды, редактировал их книги, звонил, помогая им, в институт, в издательства, в Литфонд.
Мы хотели оградить его от «нашествия». Но в этом вопросе он был непреклонен.
— Это необходимо, — говорил он. — Что делать, что делать… Ну, напишу на одно стихотворение меньше… Они допишут за меня…
…В эту ночь не спалось… Я вышел посидеть на скамеечке перед домом, где часто сиживали мы с Володей Луговским, философствовали о жизни, о творчестве.
Недавно здесь я (не поэт) читал ему таежные свои стихи, и мы говорили о верности, о партии, о сложных судьбах человеческих.
Долго говорили и долго молчали.
…Окно комнаты Луговского светилось. И мне казалось, что я слышу биение его сердца и стук его машинки…
Вдруг окно померкло. Стукнула дверь, и Володя вышел, опираясь на массивную свою трость.
Мне показалось, что он обрадовался, увидев меня на скамейке.
Он подошел, сел. Морозный воздух пенился от его дыхания. Без всякого предисловия прочел он мне только-только рожденные строчки:
Пусть люди мирно спят и видят сны
Счастливые. И пусть зашелестит
И развернется под луною книга,
Земная книга воли и свободы.
Пусть в нашем мире воцарится юность.
Тебя я вымыл месяцем и ветром,
Проснись и приходи под небо юга.
Вся в песнях ветра, в грохоте прибоев,
Скорей явись!
Тебя я вызываю
Из времени, пространства и судьбы.
Дыханье молодости слышит мир,
Рожденный, чтобы вечно обновляться.
Так будем вечно обновлять его!..
…Работая в Переделкине, я часто прохожу мимо этой скамейки… Сижу на ней в бессонные ночи… И всегда мне кажется, что вот сейчас отворится дверь, выйдет Володя, подойдет ко мне и скажет:
Поэзия! Бессребреная слава
В холщовом платье, в тоненьких сандальях,
Проснись! В тебе такие силы есть,
Каких не знала память человека…
Но дверь не открывается. Никто не выходит. Володи уже нет. И только память о нем неизгладима.
Иван Андреевич Козлов — профессиональный революционер, большевик с 1905 года,