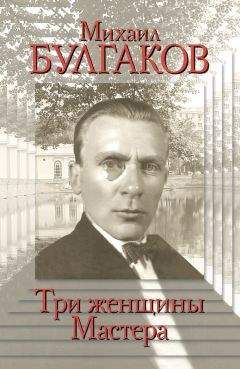Шутка – признак оптимизма, который не покидал Булгакова. Очерк «Москва 20-х годов» он заканчивал восклицанием: «Москву надо отстраивать. Москва! Я вижу тебя в небоскребах!»
Смелое и опасное замечание. Ведь в те времена небоскребы ассоциировались с «Городом желтого дьявола» – столицей Америки, главного врага социалистического государства. Булгаков предсказал современное высотное строительство в Москве и свои небоскребы возвел уже в 1924 году на страницах фантастической повести «Роковые яйца»: «…в 1926 году… соединенная американско-русская компания (видимо, подразумевался Амторг, созданный по указанию Ленина. – В. С .) выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, пятнадцать пятнадцатиэтажных домов, а на окраинах – триста рабочих коттеджей, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919–1925».
И конечно, в памяти Булгакова навсегда запечатлелись приезд в Москву и встреча со вновь обретенной Тасей.
Когда они остались наедине, лицо Таси озарилось счастливой улыбкой, губы ее задрожали, на ресницах выступили слезы – следы выстраданного ожидания. Первую ночь они провели в комнате технички Анисьи, которая, перед тем как оставить их вдвоем, приняла толику самогона, высказала свое отношение к жизни: «Живу хорошо, дожидаюсь лучшего…» Далее следовал мат, судя по которому и жилось ей плоховато, и в будущее она не верила: «Уборщица, она и есть уборщица, что при социализме, черт его побери, что при коммунизме, которого ждать, едрена мать, не дождешься!»
Сравнивая бедлам в Москве с положением во Владикавказе, Булгаков называл последний – хотя и с некоторой иронией, но уважительно – «горным царством».
Однажды Тася заметила мужу:
– Ты не разрешаешь мне прочитать роман, о котором мы говорили во Владикавказе. Я знала, что действие там развивается не в 1905 году, как в тогдашней пьесе «Братья Турбины», а во время Гражданской войны. Я с радостью вспоминаю спектакль, затихший, захваченный сюжетом зал и в конце несмолкаемые, идущие от души аплодисменты. И мне нравилось, что ты ненавязчиво говоришь людям о том, что гуманно в жизни, что отвратительно, о сложности характера человека, его воле, доброте, об ошибках и неудачах.
Михаил погрустнел:
– Если человек работает хорошо, он талантлив, но не признан, то он отнюдь не неудачник, просто ему мешают, не дают проявить себя или не замечают его труды. Я мог бесконечно смотреть на памятник Александру во Владикавказе – это искусство настоящее. Может кому-то нравиться, кому-то – нет, но человеку, понимающему толк в творчестве и не делящему людей на пролетариев и буржуев, памятник Александру будет приятен всегда, если его когда-нибудь не снесут и не поставят на его место аляповатую скульптуру Маркса или Ленина.
– Почему ты считаешь, что аляповатую? – спросила Тася.
– Гм, – усмехнулся Михаил, – уже столько наляпали по заказу властей, что надеяться на работу, выполненную с вдохновением, вряд ли приходится. Герой скульптуры должен вдохновлять художника, а если он лепит лишь за деньги и дешевую славу, то грош цена этой скульптуре и этому художнику. Я переживал, когда стал терять прежний облик мой Киев, многие люди забывали правила хорошего тона, этикет, даже свой родной язык. Я еще в Киеве говорил:
«Нельзя же отбить в слове “Эгомеопатическая” букву “я” и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: “голярня”, “перукарня”, “цирюльня” или просто-напросто “парикмахерская”! Нет слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет… Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий кому не лень».
Увы, подобные разговоры были редки между супругами. Когда не налажен быт и постоянно стоит вопрос о хлебе насущном, Михаил с трудом находил силы для размышлений о том, что писал. Поэтому мало делился с Тасей своими литературными планами.
– Я счастлив, Тася, что у меня есть письменный стол, что я могу работать. Я закончу роман, ради этого я готов терпеть муки голода. Я буду терпеть, Тася!
– И не будешь сегодня есть кашу? – улыбнулась Тася.
– А есть? Каша?!
– Конечно, садись обедать, терпеливец! Ты говоришь с такой решимостью, словно готов пойти на Голгофу ради исполнения своей идеи. Христос от литературы.
– Не шути, Тася, насчет этого человека, – серьезно произнес Михаил, – я лучше расскажу тебе действительно смешную историю. Я работаю с барышней, которая вышла замуж за студента, повесила его портрет в гостиной. Пришел агент и сказал, что это не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент. Барышня расплакалась, а я ей говорю: «Удрал он? Ну и плюньте!»
Но Тася даже не улыбнулась, выслушав эту историю:
– А вдруг она его любила и даже после того, что узнала, чувства к нему не угасли?
Михаил закусил нижнюю губу:
– Возможно, ты права, Тася. Я заметил, что женщины иногда влюбляются в негодяев, внешне выглядящих очень заманчиво, даже в людей, продавших душу дьяволу, но своеобразно обольстительных. Наверное, женщин привлекает их необычность, новизна, которая оказывается сатанинской. «Сатана там правит бал, правит бал…» Но… но… Я думаю, что если силу и могущество сатаны направить на благородные цели, восстановление справедливости, на наказание пройдох и спекулянтов, хотя бы в искусстве, то он может быть в этом плане весьма полезен.
– Сатана?! – изумилась Тася. – Сам сатана станет изводить свое отродье? Сомневаюсь… не могу поверить.
– Не делай большие глаза, милая! – улыбнулся Михаил. – Я не спорю. Ты говоришь правильно, но пофантазировать на эту тему разве нельзя? Кое-какие мысли уже засели в мою голову.
– Не знаю, – смутилась Тася, – я никогда не пошла бы на сделку с дьяволом.
– Даже ради моего спасения? – иронически заметил Михаил.
Тася хотела сказать, что уже спасла его – и не раз – и обходилась без сатанинской помощи, но подумала, что это будет нетактично, выспренно, ведь она просто выполняла свой долг жены, и поэтому лишь вздохнула:
– Не говори глупостей. У тебя есть то, о чем ты мечтал во Владикавказе, – комната, письменный стол…
Потом она вспоминала:
«Там, значит, диван был, зеркало большое, письменный стол, два шкафчика было, походная кровать большая… Кресло какое-то дырявое. Потом как-то иду по улице, вдруг: “Тасечка, здравствуйте!” – жена казначея из Саратова. Она тоже в Москве жила, и у них наш стол оказался и полное собрание Данилевского. И вот мы с Михаилом тащили это через всю Москву. Старинный очень стол, еще у моей прабабушки был».