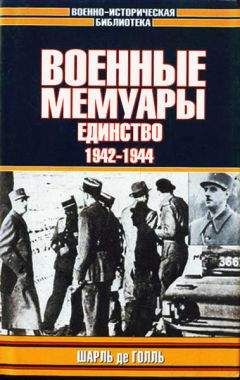"А вы? - воскликнул Черчилль. - Вы, кажется, хотите, чтобы мы, англичане, заняли позицию, отличную от позиции Соединенных Штатов?" Затем с горячей страстностью, предназначенной, несомненно, более для слушателей, чем для меня, Черчилль продолжал: "Скоро мы освободим Европу, но мы сможем это сделать лишь потому, что рядом с нами сражаются американцы. Запомните же: всякий раз, как нам надо будет выбирать между Европой и морскими просторами, мы всегда выберем морские просторы. Всякий раз, как мне придется выбирать между вами и Рузвельтом, я всегда выберу Рузвельта". Иден покачал головой - по-видимому, этот выпад не очень его убедил. А лейборист Бевин, министр труда, подошел ко мне и сказал довольно громко, чтобы все его слышали: "Премьер-министр заявил вам, что во всех случаях он всегда будет брать сторону президента Соединенных Штатов. Знайте, что он говорил от своего имени, но отнюдь не от имени английского кабинета".
Затем мы с Черчиллем поехали в ставку генерала Эйзенхауэра. Она находилась поблизости, в густом лесу. В бараке, где стены увешаны картами, главнокомандующий с большой ясностью и самообладанием изложил нам план высадки и сообщил о подготовке к ней. Корабли в состоянии выйти из портов в любую минуту. Самолеты могут подняться в воздух по первому сигналу. Войска уже несколько дней погружены на суда. Огромная машина - отплытие, переправа, высадка первого эшелона, то есть восьми дивизий и военных материалов, - налажена; все продумано до мельчайших деталей. Поддержка операции военными кораблями, авиацией, парашютный десант - ничто не оставлено на волю случая. Я убедился, что в подготовке этого рискованного и очень сложного дела в полной мере проявилась способность англичан к тому, что они называют planning[95]. Однако главнокомандующий еще должен был назначить день и час, и тут он испытывал сильное беспокойство. В самом деле, все рассчитано так, чтобы высадка произошла между третьим и седьмым июня. После этой даты условия прилива и фазы луны изменятся, и операцию пришлось бы отсрочить приблизительно на месяц. Однако погода стоит очень плохая. Для шаланд, понтонов, шлюпок при таком волнении плыть по морю и подходить к берегу - дело опасное. А ведь надо не позднее завтрашнего дня дать приказ о начале или отсрочке операции. Эйзенхауэр спросил меня: "Что вы об этом думаете?" Я ответил главнокомандующему, что решать тут может только он один, ибо ответственность лежит на нем, что мое мнение его ни к чему не обязывает и я заранее безоговорочно одобряю все, что он решит. "Скажу вам только, - добавил я, - что на вашем месте я не стал бы откладывать. Падение атмосферного давления грозит меньшими неприятностями, чем отсрочка высадки на несколько недель: усилится моральное напряжение участников операции - может нарушиться тайна".
Когда я уже собрался уходить, Эйзенхауэр в явном смущении протянул мне какой-то документ, отпечатанный на машинке: "Вот, - сказал он, прокламация, которую я собираюсь выпустить, - воззвание к народам Европы и, в частности, к французскому народу". Я пробежал текст прокламации и заявил Эйзенхауэру, что она меня не удовлетворяет. "Это только проект, -заверил меня главнокомандующий, - я готов изменить его согласно вашим замечаниям". Было условлено, что завтра я сообщу ему конкретно, какие изменения я считаю тут необходимыми. Черчилль отвез меня в свой поезд, где я должен был встретиться со своими. Я не скрывал от него своего беспокойства. Хотя перед нами открылась светлая перспектива битвы, на нее уже легла черная тень коварной политики.
В самом деле, прокламация, составленная для Эйзенхауэра в Вашингтоне, была неприемлема. В ней главнокомандующий сначала обращался к народам Норвегии, Голландии, Бельгии и Люксембурга и говорил как солдат, на которого возложена определенная военная задача и который не имеет никакого отношения к политической судьбе народов. Затем он обращался к французской нации и говорил уже совсем другим тоном. Он предлагал ей "выполнять все его приказы". Он уже решил, что "все должны остаться на местах и выполнять свои обязанности - впредь до особого распоряжения" и что, как только Франция будет освобождена, "французы сами выберут своих представителей и свое правительство". Короче говоря, он делал вид, будто на нем лежит ответственность за нашу страну, между тем как для нее он был всего лишь генералом союзной армии, умелым войсковым командиром, не имеющим, однако, никакого права управлять ею, да к тому же он оказался бы в крайне затруднительном положении, если бы ему действительно пришлось это делать. В его листовке ни слова не было сказано о той французской власти, которая вот уже несколько лет вдохновляла наш народ и руководила его военными усилиями. Она оказала Эйзенхауэру честь, отдав под его командование значительную часть французской армии. Утром 5 июня я на всякий случаи послал в главную ставку текст воззвания в приемлемой для нас редакции. Как я и ожидал, мне ответили, что уже поздно - прокламация уже отпечатана (ее отпечатали неделю назад) и ее вот-вот начнут разбрасывать с самолетов над территорией Франции. В самом деле, в следующую ночь должна была начаться высадка.
В Лондоне, как и прежде, я разместил свое бюро в Карлтон-гарденс, а сам жил в отеле "Коннот". С большим удовольствием я встретился с Чарльзом Пиком, которого Форин офис прикомандировал к нам для связи. Этот дипломат, ставший моим другом, пришел ко мне 5 июня сообщить программу радиопередачи, которая должна была состояться на следующий день утром. Сначала, согласно расписанию, выступят с обращением к своим народам главы государств Западной Европы: норвежский король, голландская королева, великая герцогиня Люксембургская, премьер-министр Бельгии. Затем зачитает свою прокламацию Эйзенхауэр. Под конец выступлю я с воззванием к Франции. Я сказал Чарльзу Пику, что этот спектакль состоится без моего участия. Если я выступаю с речью после главнокомандующего, может показаться, что я одобряю его прокламацию, между тем как я с ней в корне не согласен; к тому же я займу тут место, совсем для меня не подобающее. Если я выступлю по радио, то только отдельно, в другой час, а не в хвосте вереницы ораторов.
В два часа ночи ко мне явился Вьено. Он только что вернулся от Черчилля, который вызывал его для того, чтобы накричать на него, изливая свой гнев против меня. Вслед за Вьено пришел Пик. Я ему заявил, что ораторский конвейер, который пустят в ход нынче утром, обойдется и без меня. Зато я хочу иметь возможность выступить по Би-Би-Си вечером.
После некоторых тайных столкновений, происшедших за кулисами, лондонское радио действительно предоставили в мое распоряжение на тех условиях, которые я поставил. Я выступил отдельно, в шесть часов вечера, и с глубоким волнением сказал французам: "Началась решительная битва... Битва во Франции, конечно, будет битвой за Францию!.. Для сынов Франции, где бы они ни были и кто бы они ни были, простой и священный долг - разить врага всеми средствами, какими они располагают. Выполняйте в точности приказы французского правительства и руководителей, коих оно уполномочило давать распоряжения. Из-за туч, набухших нашей кровью и слезами, уже проглянуло солнце нашего величия!"