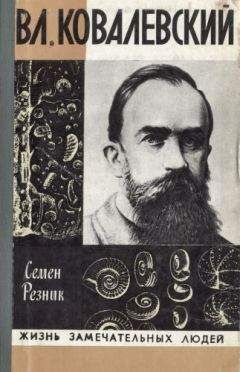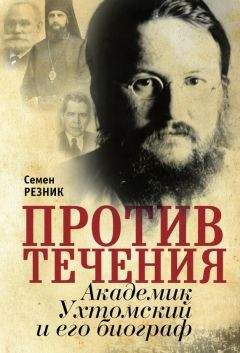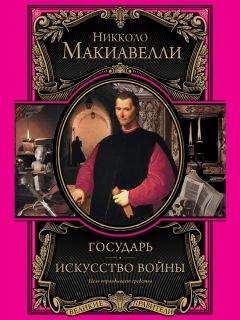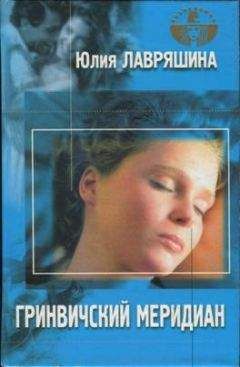Правда, Ковалевский узнал, что Милашевич — человек больной, не очень способный и начисто лишенный энергии. Прояви Владимир Онуфриевич настойчивость, может быть, доцентура досталась бы ему. Однако «дела» и желание обязательно жить в Петербурге направили его усилия в иное русло. И вот теперь, оказавшись у разбитого корыта, Ковалевский вновь стал надеяться на Москву, тем более что срок службы Щуровского подошел к концу, а Милашевич все еще не защитил магистерской диссертации.
Александр Онуфриевич списался с другом и учеником Щуровского Анатолием Петровичем Богдановым, и тот ответил, что его брату лучше всего приехать и самому переговорить с Щуровским.
«Во всяком случае, не тревожься за свою будущность, — писал Владимиру Александр, — так или иначе она устроится не хуже обстановки других».
Между тем «дела шли к дурному исходу», и, хотя Софья Васильевна, по словам мужа, в критический момент «выказала чудеса энергии, ума, настойчивости», спасти положение уже было невозможно. «Главная беда в том, — объяснял прозревший Владимир Онуфриевич, — что бани не дают и не могут дать того дохода, который от них ждали, т.е. 1000 р[ублей] в неделю, а не более 750 р[ублей] на круг, а этого положительно мало, чтобы справиться с долгами и дорогою постройкою [...]. Здание возведено в таких размерах и такой стоимости, что оно не окупает всех % и, следовательно, неминуемо должно погибнуть».
Пришлось созвать кредиторов и отдаться на их милость. Не обошлось без крика, гневных жестов, угроз... Однако, смирившись с действительностью, кредиторы не могли не понять, что продажа имущества Ковалевских «с молотка» им самим крайне невыгодна. Ибо в лучшем случае они получат половину причитающегося им долга. Большинство склонилось к тому, чтобы по их коллективному поручительству раздобыть деньги по второй закладной, а затем в течение шести лет из доходов с дома и бань покрыть всю задолженность.
Для Ковалевских это был наилучший выход. Но кредиторов оказалось пятьдесят человек. И некоторым деньги требовались немедленно, они не соглашались ни на какие отсрочки.
Когда и как удалось сговориться, документы установить не позволяют. Ясно лишь, что имущество Ковалевских «с молотка» не пошло, но и не приносило им впоследствии ровным счетом ничего. Бани, слава богу, удалось сдать в аренду, однако все, что платил арендатор, шло на уплату процентов в банк. Ну а то, что выручалось за книги и квартиры, уплывало в карманы частных кредиторов. Лишь с 1882 года некто Карбасников (он вел дела Ковалевских в Петербурге) смог высылать Софье Васильевне по 200 рублей в месяц.
7
В марте 1880 года Владимир Онуфриевич поехал в Москву на переговоры с Щуровским. Но они закончились ничем. Ковалевский понял только, что в лице Милашевича он по-прежнему имеет серьезного конкурента. Правда, зашедший к Владимиру Онуфриевичу химик Морковников (он со времен одесского экзамена с симпатией относился к Ковалевскому) заверил его, что Милашевич вполне доволен тем местом, какое занимает вне университета. Морковников предполагал, что Щуровский и Богданов на самом деле хотят выдвинуть на кафедру геологии молодого Алексея Петровича Павлова, который, однако, еще ничем не проявил себя в науке, и, как бы ни верил в него Щуровский, в ближайшее время прав на доцентуру у него не будет.
Морковников советовал, невзирая ни на что, перебраться в Москву и начать читать хотя бы приват-доцентский курс. Если лекции пойдут хорошо, уверял он, Ковалевского вынуждены будут избрать штатным доцентом. А защитив докторскую диссертацию, он станет и профессором.
Все это, однако, оставалось крайне неопределенным. И кроме того, после потрясений последних месяцев Владимир Онуфриевич не чувствовал большой уверенности в самом себе.
«Ты сам понимаешь, Саша, — писал он брату, — что, прекратив сколько-нибудь в 1874 году систематические занятия, я страшно много перезабыл, к тому же на голову легла вся проклятая деятельность по строительству и т.д., откуда же взяться таким лекциям, которые бы пробили себе дорогу, несмотря на враждебное отношение большинства. На докторскую диссертацию тоже нельзя будет представить даже мою меловую работу, они ее могут забраковать, и потребуется делать что-нибудь совершенно новое, а это при недостатке средств вещь невозможная».
Земля колебалась под ногами Ковалевского, и в тщетных попытках обрести твердую опору он метался из стороны в сторону, словно затравленный зверь. В письмах его мелькают самые невозможные проекты: то он собирается поехать чиновником особых поручений при кавказском генерал-губернаторе, то наняться к какому-нибудь богатому помещику управляющим имением, то даже — удрать от кредиторов за границу...
Однако Владимир Онуфриевич еще не успел испить до дна всю меру страданий и унижений, какие выпадают на долю обанкротившегося коммерсанта, когда фортуна снова улыбнулась ему.
Глава пятнадцатая
Рагозин и другие
1
Виктор Иванович Рагозин был на девять лет старше Владимира Ковалевского, и его молодость пришлась на самую тусклую пору, когда самодержавный российский фельдфебель до предела закрутил гайки и натянул удила.
Виктор Иванович окончил физико-математический факультет Московского университета, но приспособить свои знания ему было не к чему. Он поступил в коммерческий суд, где изо дня в день перебирал скучнейшие бумаги — входящие и исходящие. Промаявшись так года четыре и не выказав никакого рвения, он вышел в отставку, благо над страной уже чувствовалось животворное дыхание перемен.
Рагозин подался в Нижний Новгород, к берегам великой русской реки с ее необъятными просторами, заволжскими далями и народной памятью об удалой казачьей вольнице атамана Стеньки.
При российском слякотном бездорожье матушка Волга служила главной транспортной артерией, связывавшей десятки городов. Раскинув ветвистую крону притоков чуть ли не по всей европейской России, она позволяла водным путем спуститься с Урала, подняться до самой Москвы, а там, по Мариинской системе, уже нетрудно было достигнуть и Петербурга... Река поражала необычайнейшим оживлением.
По Волге шли хлеб, лес, уголь, металлы, ткани и всякие вообще изделия небогатой еще российской промышленности. Длинными вереницами тянулись суда. При крепком ветре они одевались парусами и оборачивались стаей белогрудых лебедей. Но чаще широкие плоскодонные расшивы сплавлялись в сторону Астрахани простой силой течения, вверх же их поднимала мускульная сила впряженных в лямки людей. Стон бурлаков, то нарастая, то затихая, почти не смолкал над берегами великой реки, служа привычным звуковым «оформлением» пейзажа.