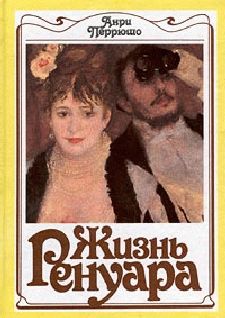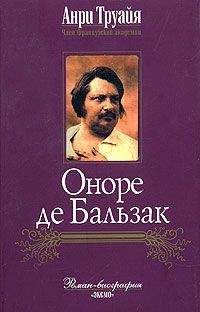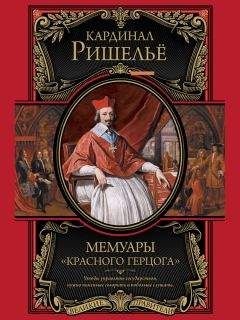«Но, господин Ренуар! – взволновался заказчик. – Я же сказал вам: надо сделать индимно, очень индимно! Хоть одну грудь по крайней мере откройте!»
Художник вернулся во Францию чрезвычайно довольный. Ревматизм как будто оставил его в покое. В конце октября в отличном расположении духа он возвратился в Кань, не подозревая, что счастье будет недолгим.
Неожиданно болезнь вновь приняла острую форму: ныли руки и ноги, опухали суставы.
Художнику снова пришлось взять костыли. С их помощью он все же мог как-то ходить. Но ревматизм прогрессировал настолько, что Ренуар скоро понял: ноги его мертвы. Отныне он больше никогда не сможет передвигаться без посторонней помощи.
Из Ниццы для него выписали инвалидное кресло.
II
КАЛЕКА С РУКАМИ, ИЗЛУЧАЮЩИМИ СВЕТ
…Прекрасней глаз, похожих на драгоценные камни, вид ее благословенного тела: груди, вздымающиеся кверху, словно полны вечного млека; стройные ноги будто хранят соль первозданного моря.
Малларме. Явление будущего
В «Колетт» мастерская Ренуара была расположена на втором этаже. Каждое утро Ренуара поднимали туда на носилках.
Его усаживали в кресло на надувную подушку: от сидения воспалялась кожа. Кисти и палитру клали ему на колени: он не мог бы удержать ее в руках. Полотняными полосками обматывали его пальцы, скрюченные болезнью. Наконец, между большим и указательным пальцами просовывали кисть[219], и Ренуар начинал писать.
Он всегда писал очень быстро, слегка наклоняясь к мольберту, метким взглядом окидывая холст. Рука его торопливо сновала от палитры к холсту, от холста к пузырьку с растворителем. Он покрывал холст мелкими резкими мазками – «будто курица клюет», говорил сын Мориса Ганья – Филипп.
На свою модель Ренуар почти не глядел. «Модель должна присутствовать, чтобы зажигать меня, заставить изобрести то, что без нее не пришло бы мне в голову, и удержать меня в границах, если я слишком увлекусь», – признавался художник Альберу Андре.
По-прежнему он больше всех других любил писать Коко и Габриэль. Габриэль вдохновила его на ряд композиций. Он изображал ее в прозрачных одеждах, широко открывавших обнаженную грудь. Композиции отличались предельной утонченностью: переливы ткани, нежный блеск розы или жемчуга, бархатистость женской груди переданы с одинаковой ненавязчивой чувственностью, зыбкой мелодией красок.
«Только теперь, кажется, я делаю то, что хочу», – говорил Ренуар Морису Ганья. Он был прав: он подошел к тому последнему, завершающему этапу творчества, когда великий художник отбрасывает все лишнее, отделывается от всего, что ему чуждо, чтобы налегке шагнуть в вечность. Отрешение, освобождение. Внешний мир угасал у дверей Ренуара. Он был королем, волшебником, творцом мира, коим единовластно правил, который создал в подарок людям. Он не гордился тем, что создал его. Он просто упивался своим творчеством, весь отдаваясь работе. «Правда, – говорил он, – я счастливчик. Я ничего другого не могу делать, как только писать картины». Писать детское личико или грудь женщины. Писать свет, ласкающий кожу или пронизывающий своими теплыми лучами пейзаж.
Случалось, художника выносили на прогулку, и он восклицал: «До чего красиво, черт побери! Черт побери, до чего красиво!»[220] Старый человек, уже подвластный разрушительным силам смерти, Ренуар отдавал все свои помыслы жизни.
«В последний раз я видел его в Кане этой весной, – рассказывал немецкий критик Юлиус Майер-Грефе. – Он сидел один в большой светлой комнате у стола. Его неподвижное исхудалое тело – кожа да кости – занимало совсем мало места. Я подумал, что он уже давно так сидит и что, наверно, он вообще часто сидит вот так подолгу, не шевелясь. Его лицо напомнило мне иссохший лик папы с картины Тициана, с такими же заострившимися от старости чертами и столь же умное, только на лице Ренуара не было выражения настороженной хитрости и тревоги. Он спокойно глядел сквозь широкое окно на холмы, высящиеся у моря, и грелся в солнечных лучах. Он не обернулся, когда я вошел в комнату, и, казалось, не расслышал моего почтительного приветствия. Как видно, солнце занимало его несравненно больше моей персоны. В ту минуту я многое отдал бы за то, чтобы стать таким же старым, как он, – ведь тогда сблизиться с ним мне было бы куда проще, чем за пустой беседой об искусстве, которую я завел».
С некоторых пор у Ренуара появился автомобиль. В нем совершались большие сезонные перемещения из Каня в Париж, из Парижа в Эссуа. Водил машину Батистен, тот самый, что некогда возил его по Каню в своей коляске. «Вот я и разъезжаю теперь в автомобиле, точно кокотка высшего разряда!» – насмешливо говорил художник.
Автомобили, в те времена встречавшиеся еще нечасто, стоили довольно дорого. Но эта роскошь – увы! – была ему необходима. Ренуару пришлось также оставить свою квартиру на улице Коленкур, сменив ее на другую, куда легче было подняться и, главное – с мастерской на первом этаже.
Ревматизм не давал ему покоя. В ту осень он перенес несколько мелких хирургических операций: пытались, правда без заметного успеха, увеличить подвижность его суставов.
«Меня снова царапал хирург, – писал он 15 ноября Жоржу Ривьеру. – Еще одна операция состоится через неделю, за ней последует еще одна и еще. Не знаю, когда я смогу наконец сидеть, я уже начинаю отчаиваться, все только одни отсрочки. Сегодня вечером хирург сказал, что надо подождать еще несколько недель. По правде говоря, нет ни малейшего улучшения, и я лишь все больше и больше становлюсь калекой. А так аппетит у меня нормальный. Все идет хорошо».
Все идет хорошо – Ренуар пишет картины… Старец с немощным телом (в письме к Дюран-Рюэлю он признался, что сейчас он «совсем без сил») по-прежнему слагал победный гимн жизни – гимн торжества над судьбой, над смертоносной западней, уготованной всему сущему. «Дни человека будто трава», – говорится в Псалмах. И впрямь, все бренно, все тщетно. Но ответом известному «все суета сует» служит «и все есть изобилие» творческого духа, ликующего на пороге ночи, которая должна его поглотить.
8 января 1912 года Мэри Кассет, в ту пору находившаяся на юге Франции, писала Дюран-Рюэлю: «Право, меня очень огорчил вид бедного Ренуара. Неужели ему ничем нельзя помочь!»
Состояние художника все ухудшалось. У него почти совсем отнялись ноги. Спустя несколько дней после его встречи с Мэри Кассет больной Ренуар перебрался в Ниццу, где для него подыскали мастерскую несколько удобнее той, которой он располагал в «Колетт»: на площади Эглиз-дю-Ве, дом 1, на берегу Пайона[221].