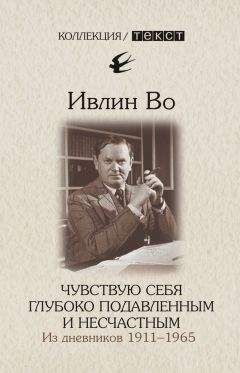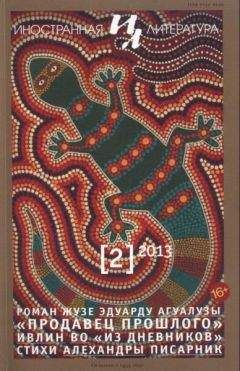вторник, 4 февраля 1947 года
В Чикаго приехали в десять и видели только занесенные снегом, тянущиеся вдоль путей строительные площадки. Наш вагон прицепили к «Шефу», составу ниже классом, и в два мы двинулись дальше. Метрдотель – маленький, взъерошенный, смуглый человечек, на вид итальянец или грек. На мою фразу: «Я иностранец», он с удивлением отозвался: «В этой стране мы все иностранцы». <…>
Лос-Анджелес,
четверг, 6 февраля 1947 года
В Пасадену прибыли в девять утра; нас ждала машина из «МГМ». Долго ехали по скоростным магистралям и широким проспектам мимо нескончаемых пустырей, автозаправочных станций, безликих зданий и пальм, окутанных теплым, тусклым светом. Все вокруг напоминало скорее Египет – пригороды Каира или Александрии, – чем европейский город. Подъехали к отелю «Бель-Эр»: вид более чем египетский, а резиновый запах – как в Аддис-Абебе. Обрюзгший директор гостиницы отдал мой люкс какому-то ревматику – здесь это обычное дело, – и нам достался симпатичный, но не соответствующий нашим запросам номер с ванной. Разобрали вещи, отдали в стирку целый ворох белья, приняли ванну и пообедали. Ресторан небольшой, но уютный, повар вполне приличный. Заказали хорошее местное красное вино – «Массон Пино Нуар». Кроме нас в ресторане не пил никто. За двумя столиками сидели женщины в абсурдных шляпах. Легли отдохнуть. Ровно в шесть к нам в номер явились два продюсера, Гордон и Макгинесс; в дверях пропустили вперед своих робких жен с букетами чудесных цветов. Сидели у нас и выпивали. Разговор не клеился. С аппетитом поужинали в ресторане и рано легли. Спал плохо; проснулся от боли.
Пятница, 7 февраля 1947 года Устал; мучаюсь от боли. Холодно, туман. Гордон зашел за мной в одиннадцать. Поехали в Калвер-сити, в здание «МГМ», сели у него в кабинете. Приходили меня интервьюировать рекламщики. Убедил их, что, пока не решен вопрос о съемке фильма, никто ничего знать не должен. Дал Гордону понять, что никакого согласия пока не даю. Говорили с Гордоном, которого я называю «Леон», о «Брайдсхеде», потом пошли обедать в немыслимых размеров столовую, где продюсеры и звезды, сидя за отдельным столом, поглощали ту же самую дрянную еду, что и остальные, и, как и все, не пили вина. Потом пошли на совещание, здесь его называют «конференцией»; вся конференция свелась к тому, что на десять минут к нам присоединился Макгинесс; сидел и нес вздор. Потом вызвали сценариста, которым оказался Кит Уинтер, – последний раз я видел его в Вильфранш. Одет он был, как все: просторный шерстяной блейзер, полосатый жилет, туфли с пряжками. В Голливуде уже не первый год, и «Брайдсхед» для него – не более чем любовная история. Никто из них не видит в романе религиозный подтекст; впрочем, по словам Макгинесса, «религиозный подход привлекает американского читателя на вашу сторону». Было что-то необязательное в том, как тщательно они разбирали мою книгу, ведь основательно изучать ее должны были совсем другие люди, которым за это платят зарплату. Лора тем временем обедала в «Романове» с миссис Гордон, а после обеда ходила с ней на показ мод. Вернулся усталый и голодный – до понедельника никаких встреч. В студии жаловались: играть в кино стало теперь невыгодно. Налоги столь велики, что звезд можно заставить сниматься разве что из тщеславия. А это означает, что предстать они должны исключительно в героическом свете.
Четверг, 13 февраля 1947 года
По-прежнему живем в мансарде, и это несмотря на все старания «МГМ» переселить нас в номер попристойнее. Ресторан, впрочем, здесь первоклассный, к тому же мы дали нашим корреспондентам адрес этого отеля, и переехать теперь в другую гостиницу было бы несподручно. Веду войну нервов со здешним менеджером, молодым толстяком, – но безуспешно. Выходные прошли спокойно, ходили в кино, фотографировались. Лора отдала должное местным магазинам, отчего похорошела, помолодела и совершенно счастлива. Кит Уинтер приступать к работе не торопится. На обед явился в индейском костюме, и в ресторан его пустили, только когда я дал ему свою рубашку.
Во вторник монашки зазвали меня в отличную монастырскую школу в горах, где накормили обедом, после чего я стал жертвой собирателей автографов и любителей-фотографов, напоследок же пришлось сыграть в «мозговой трест» в присутствии всей школы. В тот же вечер меня пригласили на ужин в университет Игнатия Лойолы. Приехать попросили в пять, поэтому машину я заказал на девять и просидел в университете лишний час. Иезуиты оказались более гуманными, чем все, с кем мне довелось в Калифорнии встречаться. Гордон дал ужин в нашу честь и пригласил представителей (и представительниц) медицинской профессии, посчитав, что именно врачи составляют элиту «МГМ». Здесь очень рано встают и рано ложатся. Город производит впечатление недостроенного. Повсюду, на большом расстоянии друг от друга, пустые строительные площадки. После войны изобретением искусственного и вредоносного тумана калифорнийцы умудрились испортить даже климат. Женские магазины радуют глаз, в них есть чем поживиться, а вот мужчинам найти сносную одежду невозможно – нет ни воротничков, ни рубашек. Мне не удалось раздобыть даже лосьон для волос. Приходят кое-какие малоинтересные приглашения: со знаменитостями, что похвально, здесь не носятся. Женщины любят собираться большими, шумными компаниями и носят замысловатые шляпы. В такие компании Лору приглашают без меня. Мужчины же обедают в закусочных, где вина не подают. Прислуга в отеле обменивается с постояльцами легкомысленными шуточками, однако к нашей островной отчужденности относятся с пониманием. Официантов мы приучили не подавать ледяной воды, а нашего водителя – не задавать вопросов. У нас представители высшего сословия задают вопросы представителям низшего, здесь же все ровным счетом наоборот.
В четверг Гордон показал нам свой последний фильм «Юные годы», которым очень гордится. Фильм хуже некуда. По счастью, кресла в здешних кинотеатрах снабжены специальной кнопкой, нажатием которой фильм можно остановить. Что я и сделал, стоило только Гордону уйти. <…>
Пирс-Корт,
Антипасха, 7 апреля 1947 года
В Стинчком вернулся без особого восторга. До войны я возвращался домой после долгого отсутствия с радостным чувством: сейчас увижу, что еще выросло в саду, что еще построено в доме. Теперь же меня не покидает предчувствие, что сад еще больше зарос, а дом еще больше обветшал. На потолке огромные разводы от протечки, снаружи осыпалась штукатурка, и все же общее впечатление отрадное: повсюду яркие краски, кожаные переплеты, отполированное красное дерево, жанровые картины маслом в позолоченных рамах. Все это имеет чрезвычайно привлекательный вид, особенно после серого моря, тусклого, однообразного, функционального пластика, линолеума и стали «Королевы Елизаветы». Америка кажется теперь очень далекой, а дневник, в котором я собирался записывать подробности нашей жизни в надежде, что когда-нибудь воспользуюсь ими в качестве литературного материала, – чистым листом бумаги. <…>