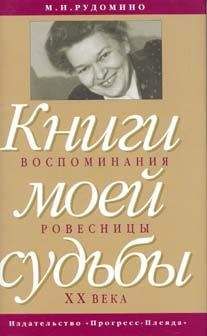Очень радуюсь, когда мой внук вместо того, чтобы задавать вопросы взрослым, пытается найти ответ в детской энциклопедии или справочнике, которых в нашем доме много и о существовании которых он знает. Думаю, в будущем, кем бы он ни стал, умение обращаться со справочниками сэкономит ему массу времени.
Дача в Барвихе по-прежнему занимала особое место в нашей жизни. Она требовала большого внимания. Во время войны в доме располагались военные, а после их ухода все растащили. Остался только сруб и крыша. В начале 1950-х годов сделали капитальный ремонт дома, утеплили его, что дало возможность приезжать и в зимнее время. Появился новый "член семьи" — немецкая овчарка Бинго. Все ее любили несмотря на то, что она почти всех в нашей большой семье искусала. Марианне искусала спину, Марии Николаевне и Григорию Михайловичу — руки. Она также умудрилась задрать козу и соседскую собачку. Но, с другой стороны, она была так ласкова с нами со всеми, что мы никак не могли с ней расстаться. Держали на даче специально для нее домработницу, не хотели брать в город. Но все-таки расстались с ней. Адриан отвел ее к леснику в Немчиновку. Он рассказывал, что когда оставлял ее у лесника, собака душераздирающе выла, а когда он пришел через две недели навестить ее, она не бросилась ласкаться, как всегда, а забралась в глубь конуры и оттуда грустно смотрела.
В конце 1950-х годов на даче начались большие изменения. Мы построили маленький дом в глубине участка, где "нога человеческая не ступала", и Василий Николаевич, я и Адриан переехали в него. В декабре 1960 года отпраздновали новоселье и почувствовали радость самостоятельной жизни. А в 1964 году мы переехали в Москве в отдельную квартиру в новом доме в Большевистском (ныне Гусятниковом) переулке рядом с Чистыми прудами. Конечно, были рады. 40 лет мы по вине А.В.Луначарского прожили в коммунальной квартире на Мясницкой улице. Но, когда переехали в новый дом, вначале пожалели: не было ни высоких потолков, ни больших комнат, как в дореволюционном доме на Мясницкой улице. Однако чувство самостоятельности затмило все.
Как я уже писала, мы с Василием Николаевичем старались каждый год обязательно отдыхать. В первые послевоенные годы в отпуск ездили в санатории на юг. Надо было лечиться — у меня было переутомление центральной нервной системы. Я даже лежала в 1948 году в больнице по этому поводу. Но позже мы полюбили отдыхать в Подмосковье и в центральной части России. Несколько раз ездили в Карловы Вары. Увлекались поездками на теплоходе по Волге, Волго-Балту, Оке и Каме. На Байкал так и не выбрались. В начале 1950-х годов зимой отдыхали в чудесном доме отдыха судостроителей "Красная Пахра", а затем в 1960-1970-х годах в доме творчества архитекторов "Суханово", который стал для нас как бы "вторым домом". "Суханово" мы полюбили за интеллигентный дух, создававшийся не только отдыхающими, но который долгие годы поддерживал и развивал обслуживающий персонал во главе с сестрой-хозяйкой, незабываемой Ивой Лазаревной. С ее уходом этот дух безвозвратно улетучился, и, когда я отдыхала в "Суханово" в 1982 году, даже поверить нельзя было, что здесь когда-то витал тот неуловимый дух интеллигентного дома.
В 1957 году Василий Николаевич ушел на пенсию. Ему было 67 лет. У меня в то время в самом разгаре была подготовка к строительству нового здания и борьба с Ленинской библиотекой "не на жизнь, а на смерть" за нашу самостоятельность. А здесь еще врачи поставили диагноз — стенокардия! Настроение было плохое. Очень тянулась к Василию Николаевичу, он жил на даче, и мне его очень не хватало. Привожу два письма того времени к нему:
Москва, 17-XI..1960 г., 3 ч.д.
Толенька, мой родной!
Ты промелькнул, как луч зимнего солнышка! А вместе с тем мне так хотелось бы побыть с тобой, прижаться к тебе и тихо-тихо посидеть с тобой. Когда я открыла двери и у видела, у меня сильно забилось сердце и точно что-то теплое и приятное полилось в груди. Толик, родной, люблю я тебя сильно и так всю жизнь. Ты прошел в моей жизни красной нитью. Нам только никогда не хватало времени тихо посидеть и тихо поговорить или даже тихо помолчать. Всегда кто-нибудь или что-нибудь мешало. И темпы быстрой жизни и ежедневная текучка не давали быть вместе. А короткие перерывы отпусков отвлекали новыми впечатлениями, и мы, хотя были и близки, но много мыслей уходило на окружающее и окружающих. И так прошла вся жизнь. А дома вместе — это минуты, которые я помню:
1924 год, когда приехал из Киева, а я уже в декрете была и лошадь по саду понесла и ты побежал за ней, а я осталась одна;
1936 год, когда Марианка родилась и мы сидели вместе в комнате, полные чувств;
1956 год, когда мы вернулись из Карловых Вар и у нас было два дня отпуска и мы встали в 12 часов дня и разговаривали, сидя на диване у Адриана;
и 1957 год, когда ты только что ушел на пенсию и я бежала домой, чтобы побыть с тобой, и чувствовала себя, как в первые годы жизни с тобой. Но вскоре ты опять пошел работать. Это подлинные лучи, а в общем за 40 лет всегда хотелось тебя поцеловать и что-нибудь всегда мешало. И во сне мне это часто снится… Сейчас мечтаю об отпуске — как мы только вдвоем будем месяц и как мы тихо посидим и любовно поговорим и здоровье подремонтируем, чтобы еще долгие годы вместе быть.
Я давно думала тебе письмо написать, но сейчас наплыв чувств так велик, что решила не откладывать. Мне тебя, Толик, очень жалко, что тебе приходится с дачей возиться, а еще ко всему я заболела. И потому считаю дни и очень хотелось бы тебя в городе увидеть. Краме того беспокоюсь о тебе. В даче холодно, наступили морозы. А ты о себе мало думаешь. Очень прошу тебя, береги себя, хотя бы для меня.
Толинька, родненький и почему так получается? Мы муж с женой с тобой, а вместе бываем с трудом! Давай договоримся, что это в последний раз. Надо не быть рабами текучки, а думать о нас самих. Почитаем вместе. Походим в театры, в кино, наконец. Скорее бы эта неделя кончилась. Временами бывает так тоскливо, серо, далеко, а библиотечные боятся меня потревожить, дети на работе. Работы много. Надо написать несколько статей, написать письма, а нет силы воли взяться и начать… и так проходят дни… А ты? Думаешь или некогда?
Обнимаю, целую крепко, крепко, крепко.
Твоя навсегда Р.
В другом письме из больницы в феврале 1962 года я писала:
19 февраля 1962 г.
Толик, мой любимый!
Пишу это письмо только тебе. Мне хотелось поговорить с тобой. Спасибо тебе, мой единственно любимый, за ласку, внимание и любовь. Я чувствовала ее ежесекундно. Родной ты мой, какое счастье, что мы вместе. И это счастье надо продлить как можно дольше. Я все делаю, чтобы стать здоровой и еще долго жить вместе с тобой в таком единении, как последнее время. Но и ты, Толик, не забывай о себе. Ты действительно мне не понравился, когда я сверху из окна смотрела на тебя. Толинька, ты только начни следить за своим здоровьем. А потом уже пойдет. Несмотря на скорый санаторий, надо уже сейчас начать и пойти к врачу. Я понимаю твое состояние пустоты. Ведь я с тобой и все время с тобой. Жду тебя хоть бы под окно. Боюсь, что карантин продлят и придется ограничиваться только письмами.