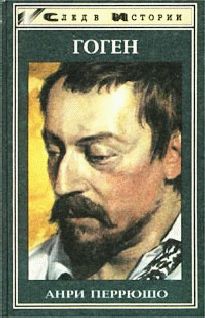ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ДОМ НАСЛАЖДЕНИЙ
(1898-1903)
Кончающий с собой гонится за тем своим образом, который создал в собственном воображении: с собой кончают лишь во имя того, чтобы жить.
Мальро[124]. Триумфальный путь (слова Перкена)
С январской почтой 1898 года Гоген не получил ничего, кроме обычного письма Монфреда, и, захватив с собой пузырек с мышьяком, поднялся на склон горы, чтобы покончить с собой. С февральской почтой - о, ирония судьбы Гоген получил письмо от Шоде и Мофра; в первом лежал чек на семьсот франков, во втором - почтовый перевод на сто пятьдесят.
Четыре страницы, написанные Шоде его неровным почерком, сбивчиво, невнятно, с полным пренебрежением к правилам синтаксиса и орфографии, были полны сердечных ободрений. "Я по-прежнему Вам друг, я Вас не брошу". Торговец не писал Гогену "очень давно" - целый год. Человек добрый, но поверхностный и вечно занятый погоней за наслаждениями, он упоминал о своем молчании вскользь. По беспечности и небрежности, от которых страдали его собственные дела, - в них царил полный беспорядок, - он и не подозревал, что внес свою лепту в разыгравшуюся вдали драму и что из-за отсутствия писем и хотя бы небольшой суммы денег Гоген едва не погиб. Впрочем, у Шоде было столько уважительных причин не писать! Во-первых, он болел, потом "современная живопись переживает страшный кризис", и к тому же у Боши умер ребенок.
Зато восемь страниц письма, написанные Мофра, были оскорбительными и раздраженными. Мофра не удалось продать картину, которую он взялся продать. Поскольку Гоген осаждает его требованиями денег - так и быть, он купит ее сам по условленной цене в триста франков. Половину суммы он высылает переводом, "вторую половину вышлю в ближайшие дни". Мофра тоже был далек от мысли, что он участвует в драме. "Поступок" Гогена, который осмелился послать Мофра свое последнее письмо через Шоде - а торговец, как видно, показывал его во всех кафе на Монмартре, - взорвал Мофра.
"Восхищаясь Вашим талантом художника, я, к сожалению, не могу испытывать тех же чувств к Вам, как к человеку... Эх, дорогой Гоген, досадно, право, видеть, как у Вас, судя по всему, портится характер... Тех, кто должны были бы быть Вашими искренними и преданными друзьями... Вы вызываете на какой-то вздорный "поединок", недостойный Вас... Обращайтесь же впредь к тем, кого Вы считаете своими настоящими друзьями, и забудьте одного из тех, кто принадлежал к их числу - только подтвердите официально получение этого письма".
Полученными восьмьюстами франков Гоген расплатился с самыми рьяными кредиторами. А теперь, - писал он Монфреду, "опять начнется прежняя жизнь в нужде и позоре, до мая месяца, когда банк наложит арест и продаст за гроши все мое имущество, в том числе картины". И в самом деле, в мае Гоген должен был вернуть ссуду Земледельческой кассе. "Посмотрим, - вздыхал Гоген. Может, к этому времени удастся придумать что-то другое". Так или иначе, Гоген был "осужден жить".
Монфред, который, читая последние письма друга, испытывал "леденящую грусть", советовал художнику вернуться во Францию. Но Гоген отвергал такой выход. Что ему делать в Европе? Пытаться устроиться на службе в финансовом мире, как советует Монфред? Смешно! От всего того, что пятнадцать лет подряд, день за днем, поддерживало Гогена в его борьбе, у него осталось одно - высокое мнение о себе как о художнике. Больше у него не было ничего и сам он был ничем, но это мнение у него сохранилось, оно оправдывало Гогена в его собственных глазах, придавало смысл пятнадцати годам неудач. Если он не сможет больше опираться на это мнение, жизнь его потеряет смысл. Он будет вынужден себя презирать. И ему советуют вернуться во Францию и там выпрашивать жалкую, наемную работенку, чтобы в довершение краха, который он потерпел, отречься от пройденного пути! Иначе говоря, во имя того, чтобы жить, ему предлагают лишить жизнь ее последнего смысла. Но тогда получится, что он страдал понапрасну. Бессмысленно. Нелепо. Он станет отступником и будет обречен на отвращение к самому себе. Нет, уж лучше любая нищета. Лучше страдать, но знать, что ты страдаешь не зря, в разгар страданий испытывать уверенность, которая, точно железный корсет, заставляет тебя держаться прямо и не сгибаясь. До конца оставаться тем, кем ты сам себя считаешь, чего бы это ни стоило - хоть мученического венца. Слово "мученичество" завораживало Гогена. Вскоре он написал бывшему судовому врачу с крейсера "Дюге-Труэн" доктору Гузе, который, как и Монфред, убеждал его вернуться во Францию.
"Нет, об этом не может быть и речи! К тому же мученичество зачастую необходимо для революции! Мое творчество, если его рассматривать с точки зрения его непосредственного и чисто живописного результата, имеет куда меньше значения, чем если подходить к нему с точки зрения конечного и нравственного результата: то есть освобождения живописи, отныне вырвавшейся из всех пут, из подлой сети, сплетенной всеми школами, академиями и в особенности бездарностями. Посмотрите сами, на что художники дерзают сегодня и сравните с робостью, царившей десять лет назад".
Великий Гоген наложил печать на свою эпоху.
Художник все время возвращался к своей картине, написанной в декабре: "Ей богу, признаюсь Вам, она меня восхищает... Будут говорить, что она не доработана, не закончена. Правда, о самом себе судить трудно, но все же я думаю, что эта картина не только превосходит все мои предыдущие, но что я никогда не напишу ничего лучшего и ничего похожего".
Несмотря на слабость и недомогание, Гоген пытался продолжать работу. Он повторил отдельные части большого полотна - например, "Раве те хити рама" ("Присутствие злого чудовища"), где каменного идола заменил отталкивающей фигурой божества. Это один из последних написанных им идолов. "Откуда мы?" и то, что вдохновило эту тему, отныне принадлежало прошлому. Гоген хотел верить в свой "рай" и в самого себя. Колдовское наваждение исчезало. Его искусство менялось, освобождалось от намеков на древние старинные культы. Мир, который он теперь изображал, был миром умиротворенным - пасторальным миром, как на картине "Фаа ихейхе" ("Подготовка к празднику"[185]), где мужчины и женщины, изображенные среди цветов и животных, невинны, как эти животные, и прекрасны, как эти цветы. "Читая "Телемаха", - разъяснял Гоген Морису, - можно отдаленно представить себе, что общего у Греции с Таити и вообще с маорийскими островами". Окружающий его сад художник пишет все более "произвольным" цветом. Изобразив лошадь, пьющую из ручья, и двух туземцев верхами[186], он пишет лошадь на переднем плане зеленовато-серым, одну из лошадей в глубине красным, а на ручей цвета индиго кладет ярко-оранжевые рефлексы. "Я не пишу с натуры - и теперь еще меньше, чем прежде. Все происходит в моем необузданном воображении".