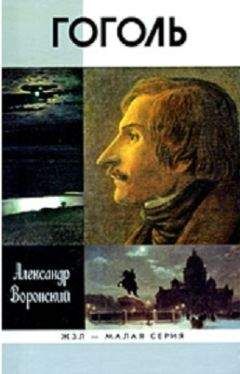И в себе Гоголь находил много низменного. Чтобы пробить дорогу, с отрочества приходилось скрытничать, лицемерить, выслуживаться перед богатыми родственниками, перед воспитателями. Надо было уметь заручаться полезными связями, знакомствами. Гоголь обнаружил в этом незаурядную настойчивость. С годами он сделался настоящим дельцом. Он превращал своих друзей в ходатаев по своим делам, проник в среду Пушкина, Жуковского, Дмитриева, в высший свет. Он сделался там кем-то, близким к приживальщикам; двоедушничал, унижался, обманывал холодно и расчетливо. К этому его приучала вся обстановка николаевской действительности. Вместе с тем он высокомерно пророчествовал, нудно поучал, требовал преклонения пред собой. Ф. М. Достоевский не без основания взял Гоголя времен «Переписки» прототипом Фомы Опискина в «Селе Степанчикове». Действительно, в Гоголе были черты, делавшие его похожим на Опискина.
Но, в противоположность Опискину, он мучительно сознавал эти свои недостатки. В его глазах они углубляли пропасть между вещественным и духовным. Углублению этой пропасти, возможно, содействовало и расхождение в области половой жизни, «физиологического аппетита» с высшими психическими состояниями, как о том можно судить по «Вию», по «Страшной мести», по «Невскому проспекту» и по разным намекам в письмах.
Такими путями развивался в Гоголе взгляд на материальное и чувственное как на нечто порочное и отвратительное. Гоголь, однако, недаром сообщал о себе, что в нем всегда были заложены стремления стать лучше. Повторяем, внутренняя жизнь его отличалась крайней напряженностью. Он был художник-моралист-мыслитель. Искусство для него являлось средством послужить обществу. Он обладал сильной волей, упорством и никогда не удовлетворялся собой и своими произведениями. Его занимала душа человека, ее строй, движения и порывы. Судьбы родины, Европы, человечества его постоянно тревожили. От умел смирять и обуздывать свои низшие потребности во имя высших.
Но и духовная жизнь Гоголя получала питание, отнюдь не доброкачественное. По некоторым его задаткам он отличался архаическим складом чувств и мыслей. Может быть, еще от предков, из которых некоторые были лицами духовного звания, к нему перешло предрасположение к религиозности. Поместная среда, александровская и николаевская эпохи, деятельно укрепляли эту религиозность. Распад натурально-поместного уклада тоже усиливал ее.
Рушился исконный быт, порывались естественные связи с людьми, с землей, с обиходом. Откуда-то со стороны вторгалось нечто вздорное, бессмысленное, разобщенное. Взор невольно искал опоры в потустороннем мире. Всякая религия зиждется на дуализме тела и души. Православие этот дуализм доводит до пропасти между материальным и духовным. Дух в чувствах и мнениях Гоголя все больше отрывался от своей первоосновы, от материи и противополагался ей. Духовное обозначало христианское, аскетическое, потустороннее, между тем как материя являлась все более грязной, пошлой, дробной.
В самой религиозности Гоголя было много примитивного, даже дикарского. Он был суеверен, верил в предзнаменования, в чудеса, в то, что с помощью магических средств можно изменять естественное течение вещей. В основе тут лежало чувство, что все вещи интимно связаны друг с другом, с человеком, чувство, очень сильное, «вещественное», но лишенное реальных представлений, к а к можно изменять в свою пользу мир. С другой стороны, Гоголь впитал в себя и высшую религиозность христианства. Он был маг, волшебник, колдун, который хотел быть христианином. И это тоже питало его дуализм.
К аскетизму вели и общественные взгляды Гоголя, как они впоследствии сложились. Он видел кругом Чичиковых, Собакевичей, Плюшкиных, городничих, Хлестаковых, жалких Башмачкиных и Поприщиных, чувствовал и понимал зависимость их уродств, их омертвения от окружающей их «вещественности», но он не видел, вернее, старался не видеть; что «вещественность» уродовала людей благодаря сложенным имущественным и иным отношениям, какие порождали производительные силы. Не имея их в поле своего зрения, Гоголь, естественно, был далек и от взгляда, что человек есть совокупность общественных отношений, что чувства и мысли определяются «вещественностью» не непосредственно, а через эти отношения и через всю сложнейшую идеологическую надстройку.
Вещь и человек сопоставлялись им прямо, механически. Вещь скрывает в себе «соблазны», человек таит в себе «страсти». Дабы уничтожить уродства, надо отказаться от вещей и подавить в себе пороки. Надо заняться, стало быть, не изменением имущественных и иных общественных отношений и не изменением общественного человека, а личным хозяйством человека вообще и развитием в нем аскетического духа. Чем более зрелым делался Гоголь, тем сильнее он обвинял самого человека. Так возникло «душевное дело» Гоголя. Духовное начало тоже принимало нездоровый характер. Особенность Гоголя не в том, что он признавал дуализм души и тела, а в том, что он довел этот дуализм до предельной крайности. И в себе он соединял Фому Опискина и высокого, одухотворенного творца. Напомним еще раз его горькое восклицание:
«Часто я думаю о себе: зачем бог создал сердце, может, единственное, по крайней мере, редкое в мире, чистую, пламенеющую души; зачем он одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения».
Про Гоголя в известном смысле можно сказать, что он написал в «Мертвых душах» о Хлобуеве: Хлобуев странным образом совмещал в себе глубокую религиозность с беспутством.
В «Вечерах на хуторе» еще много свежести и, выражаясь словами Пушкина, «веселости простодушной и вместе лукавой». Но уже и там в молодую и юную вещественность мира, в наивное людское общество врываются дьявольская красная свитка и свиное рыло. Показывается Басаврюк со своими червонцами, ведьма-утопленница, у которой сквозь прозрачное тело что-то чернеет, — нежить путает деда, чорт крадет месяц, ведьма-Солоха путешествует на помеле. Появляется неведомо откуда страшный колдун в красном жупане, встают мертвецы. Мир отвратительных образин делается все более живым и подлинным, все сильней сливается с жизнью, все плотнее заслоняет ее собою, чтобы самому стать действительностью. Гоголь ищет спасения от нежити в казацком прошлом, у старосветских помещиков, но «орлиное соображение вещей» невольно заставляет художника обращаться к настоящему. Омерзительные хари множатся, лезут, обступают. В «Вии» они овладевают бурсаком-философом. Теперь они слились с действительностью, воплотились. Гоголь делается вполне «реальным» писателем, но его реальные люди сами превращаются в нечто, пожалуй, хуже всякой нежити.