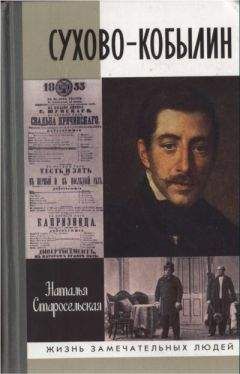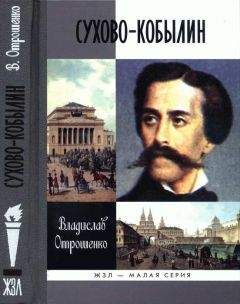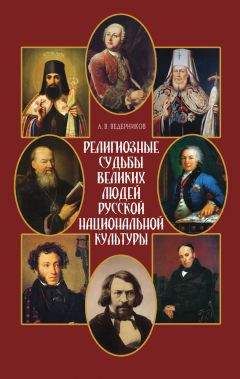Он очень волновался — артисты не знали текст, безбожно искажали его, говорили слишком громко, превращая гротеск в балаган, против которого Сухово-Кобылин боролся, как мог. И в этом у него был верный союзник, Гнедич… Во время репетиций Александр Васильевич делал немало замечаний артистам и даже после премьеры написал в театр, что необходимо «обратить внимание на произношение текста и, в особенности, некоторых отдельных слов, которых публика не слышит».
15 сентября состоялась премьера пьесы «Расплюевские веселые дни». А спустя почти год Суворинский театр привез в Москву на гастроли трилогию Сухово-Кобылина, в которой наряду с артистами труппы Суворина были заняты и александринцы. Спектакли игрались дважды и имели огромный успех. Оценки критики были разнородны, хотя многие сходились в том, что более мрачных и тягостных картин на русской сцене, пожалуй, еще не бывало. В постановках были заняты известные исполнители: Далматов (Тарелкин), Бравич (Варравин), Михайлов (Расплюев), К. Яковлев (Ох)…
Между тем отзывы критиков на трилогию были нелестными. Даже писатель А. Амфитеатров завершил свою обстоятельную и очень доброжелательную статью жестоким приговором: «Если автор сделался комиком в двадцать, тридцать, сорок лет, он в состоянии остаться приятным для публики хоть до восьмидесятого года. Но восьмидесятилетний дебютант, как бы он ни был талантлив, не может вызвать в зрителе иных чувств, кроме недоумения и некоторого конфуза:
Это призрак,
Старосветский страшный призрак!
Комедия Сухово-Кобылина — именно комический дебютант огромного таланта, но восьмидесятилетний, именно старосветский страшный призрак, смеющийся смехом острым, но уже беспредметным по складу и понятиям нового века. А в старый — кому охота делать, ради дряхлого Тарелкина, исторические экскурсы и справки?»
Еще более резко высказалась театральный критик Любовь Гуревич: «Поскольку эта комедия является сатирою на порядки своего времени, она может вызвать, при своих художественных недостатках, только ужас, смешанный с отвращением. Комические же эффекты, задуманные автором, имеют чисто балаганный характер. Остроты — плоски и пошлы. Язык, превосходный язык Сухово-Кобылина, стал здесь серым и банальным. Ни в чем никакого проблеска былого дарования, так что, читая эту комедию-шутку, невольно задаешься вопросом: да неужели же возможно такое отсутствие самокритики, такое падение ума и воображения у человека, который показал раньше несомненную даровитость?»
Знал ли Александр Васильевич об этих отзывах? (Ведь он был в это время во Франции, а многие думали, что его уже нет в живых.) Но мы можем предположить, какова была бы на них его реакция. Когда-то он написал в своем предисловии к «Делу»: «Об литературной так называемой расценке этой Драмы я, разумеется, и не думаю; а если какой-нибудь Добросовестный из цеха Критиков и приступил бы к ней с своим казенным аршином и клейменными весами, то едва ли такой оффициал Ведомства Литературы и журнальных Дел может составить себе понятие о том равнодушии, с которым я посмотрю на его суд…»
Конечно, судьба спектакля Александра Васильевича не могла не волновать. «Нынче получил я „Новое время“ от 15 сентября, из которого мог усмотреть, к моему удовольствию, что Веселые расплюевские дни продолжают держаться на сцене и вступили в 8-е представление. Я только не знаю, велик ли сбор, то есть полна ли зала… Прошу Вас справиться в театре, как являют себя сборы, полными или неполными, то есть с будущностью или без будущности?» — писал он из Болье 1 ноября 1900 года Н. В. Минину.
Удивительно, но именно А. С. Суворин, «черносотенец», «реакционер», «лукавый царедворец», претворил в жизнь мечту Александра Васильевича — представил всю трилогию на театральных подмостках. И если положить на одну чашу весов протокол Театрально-литературного комитета, подписанный славными именами, а на другую — полученное в цензуре разрешение пьесы «черносотенцем и ретроградом», каким Суворин вошел в историю культуры, что все-таки перетянет?
Суть вовсе не в том, что желание 80-летнего старца наконец-то было исполнено. Суворину удалось, пусть и ценой жестоких цензурных изменений, сделать реальный шаг — прорвать плотную завесу молчания и запретов. Такие поступки редко не требуют компромиссов. И, думается, Сухово-Кобылин пошел на них сознательно, ясно понимая, что и ради чего делает.
Разумеется, он не мог не страдать от мысли, что его детище, последнее, любимое, многострадальное, вынуждено предстать перед целым светом как бы в грубой, «удешевленной» и наспех сшитой маске. Но все же маска эта не могла скрыть лица полностью.
Может быть, Сухово-Кобылин подготовлял себя к компромиссу еще тогда, когда цензура разрешила выпустить на сцену «Дело» и были предприняты первые, робкие попытки отстоять «Смерть Тарелкина». Желание увидеть свою трилогию на подмостках не было, как представляется, ни последней волей старца, ни радостным броском в ловко расставленную «суворинскую ловушку», как писал К. Л. Рудницкий. Было твердое и горькое убеждение, что начавшийся век ничего по сути не изменил. И как философу, Александру Васильевичу необходимо было проверить свое ощущение. Полагаю, он верно расценил «шиканье», раздавшееся на первом представлении. И, наверное, в каком-то высшем смысле оно было для него дороже аплодисментов.
«Кто бы мог подумать, что будут шикать А. В. Сухово-Кобылину! — писал в своей рецензии В. Дорошевич. — Пьеса, написанная 32 года тому назад, могла показаться устарелой… но все-таки шикать автору Свадьбы Кречинского, автору Отжитого времени, 82-летнему старику, классическая пьеса которого уже 45 лет украшает русскую сцену! За полицию, что ли, обиделись, гг. „протестанты“?»
Сухово-Кобылин не переоценил «дальнобойность» своей «комедии-шутки» — «Смерть Тарелкина» поразила именно тем, что доказала на практике: во все времена найдутся среди зрителей те, кому есть на что обидеться. И мы вовсе не стремимся представить его неким пророком. Нам слишком хорошо известно, как умело подменяется живой облик писателя иконой провидца. Так происходило во второй половине XX столетия с Достоевским, которого растаскивали по цитатам, в большей или меньшей степени приложимым к сугубо новейшей злобе дня и тем самым невольно делая из Федора Михайловича подобие Тарелкина, стремящегося быть впереди прогресса. А классика измеряется не этими, в сущности, тоже «клейменными весами», о которых рассуждал в предисловии к «Делу» Сухово-Кобылин; она существует и в вечности, и в конкретном времени, поворачиваясь разными своими гранями, но не переставая при всей ее актуальности быть фактом своей эпохи со всеми ее проблемами.