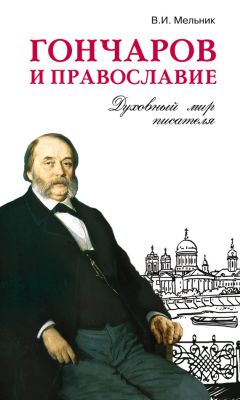Этот главный вопрос — об изображении Спасителя в художественном произведении — Гончаров, видимо, помог решить для себя Великому князю. К. Р. очень деликатно подошел к этой проблеме. В его драме, изображающей последние дни земной жизни Иисуса Христа, о Нем лишь говорят персонажи пьесы, но Его Самого мы не видим.
Опытный художник, Гончаров предусмотрительно предупреждает своего литературного ученика о возможности серьезных ошибок при обращении к религиозным сюжетам. Ведь с этой точки зрения его не всегда устраивала даже поэзия Пушкина и Лермонтова. В одном из писем он замечает: «Почти все наши поэты касались высоких граней духа, религиозного настроения, между прочим, величайшие из них: Пушкин и Лермонтов; тогда их лиры звучали „святою верою“… но ненадолго, „Тьма опять поглощала свет, т. е. земная жизнь брала свое. Это натурально, так было и будет всегда: желательно только, чтоб и в нашей земной жизни нас поглощала не тьма ее, а ее же свет, заимствованный от света… неземного“»[353]. С этих позиций обсуждает он с Великим князем и его поэмы («Севастиан-мученик», «Возрожденный Манфред»), и лирику.
Поэма «Севастиан-мученик» была завершена Константином Константиновичем 22 августа 1887 года. Она является поэтическим переложением жития св, Севастиана, хотя и с некоторыми отступлениями. Трудно сказать, чем именно поразило житие св, Севастиана Великого князя. Возможно, тем, что переложение позволяло Константину Романову развить в поэме автобиографические мотивы. В «Севаетиане-мученике» выявились те же мотивы, которые легли в основание поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»: желание творческой свободы, невозможной в условиях жизни высшего света.
Дневники Великого князя дают представление о том, что он чувствовал себя в царском окружении не всегда уютно. Его внутренняя жизнь характеризуется некоторой нравственной оппозицией к власти. Он каким-то образом пытается отгородиться от державных интересов семьи Романовых. Его душа тяготеет к семье, к искусству, к общению с людьми литературного и артистического круга, к религии. В своем дневнике он записывает: «Меня в высших сферах считают либералом, мечтателем, фантазером и выставляют таким перед Государем.
И он, думается мне, сам приблизительно такого обо мне мнения»[354]. В этом была и доля правды. В стихах и дневниках Константина Константиновича (как, например, при описании событий 1896 года на Ходынском поле) слышны демократические мотивы. Иногда он даже начинает подражать Некрасову:
Умер бедняга! В больнице военной
Долго, родимый, лежал;
Эту солдатскую жизнь постепенно
Тяжкий недуг доконал…
Рано его от семьи оторвали:
Горько заплакала мать, —
Всю глубину материнской печали
Трудно пером описать!
(«Умер»)
Несоответствие своего положения и своей внутренней жизни князь, очевидно, считал своего рода «мученичеством». Во всяком случае, в поэме «Севастиан-мученик» проявляется не только религиозность князя, но и его скрытная «родственная» оппозиционность «высшим сферам». Именно о себе пишет К. Р., говоря о св. Севастиане:
Что людьми зовется верхом счастья,
То считал тяжелым игом он.
Но, увы, непрошенною властью
Слишком рано был он облечен!
В письме к Великому князю от 6 марта 1885 года Гончаров выражает свое мнение о другой капитальной вещи Константина
Константиновича — поэме «Возрожденный Манфред», явившейся своеобразным поэтическим продолжением романтической драмы Байрона «Манфред». Если произведение Байрона завершается смертью героя, то К. Р. изображает загробные переживания Манфреда, его надежды, его стремление к Богу. Гончаров совершенно не согласен с авторским замыслом Великого князя. И притом не согласен как христианин, как церковный человек. К. Р. дарует своему герою Манфреду спасение. Бог прощает его грешную душу. Тема поэмы — Божие милосердие. Однако Гончаров призывает своего подопечного «трезвиться» и вспомнить, что Бог не только милостив, но и справедлив: «Я прочел возвращаемую при этом рукопись „Возрожденный Манфред“ и поспешаю благодарить Ваше Высочество за доставленное мне удовольствие и за доверие к моему мнению.
Вам угодно, чтобы я отнесся к новому Вашему произведению „сочувственно и строго“: отнестись не сочувственно — нельзя, а строго — можно и должно бы, по значительной степени развившегося Вашего дарования, но не следует, как по причине избранного Вами сюжета, так и потому, что Вам приходилось копировать Ваш этюд с колоссальных образцов — „Манфреда“ Байрона и „Фауста“ Гете. Немудрено, что внушённый ими сколок вышел относительно бледен.
Извините, если скажу, что этот этюд — есть плод более ума, нежели сердца и фантазии, хотя в нем и звучит (отчасти) искренность и та наивность, какую видишь на лицах молящихся фигур Перуджино. Но если есть искренность и наивность, то нет жара, страстности, экстаза, какие обыкновенно теплятся в уме и сердце горячо верующих, оттого и кажется, что это, как я сейчас сказал, есть более плод ума, пожалуй, созерцательного, но не увлечения и чувства. По этой причине — мало силы, исключая двух-трех монологов, один Аббата и другой — Астарты. Если бы, кажется мне, посжать, посократить, иные диалоги свести в одно — от этого исчезли бы повторения, и этюд выиграл бы в силе. Теперь он кажется — не свободно, без задней мысли начертанной широкой картиной художника, а скорее правильно, холодно исполненной задачей на тему о тщете земной науки и о могуществе веры в вечное начало и т. д.
Но тема эта, хотя и не новая, но прекрасная, благодарная и для мыслителя, и для поэта. У Вас она отлично расположена: душа, сбросившая тело, внезапно очутилась над трупом его; над ним горячо молится монах; бессмертная, „другая“ жизнь уже началась: какой ужас должен охватить эту душу, вдруг познавшую тщету земной мудрости и ложь его отрицаний вечности, Божества и проч.! И какое поле для фантазии художника, если он проникнет всю глубину и безотрадность отчаяния мнимого мудреца, все отрицавшего и прозревшего — поздно. Раскаяние по ту сторону гроба — по учению веры — не действительно: он, перешагнув за этот порог, должен постигнуть это, — т. е. что нет возврата, что он damnatus est[355].
Вот это отчаяние одно, по своему ужасу и безвыходности — могло бы быть достойною задачею художника! Образцом этого отчаяния и должна бы закончиться картина! Пусть он погибает! Он так гордо и мудро шел навстречу вечности, не верил вечной силе и наказан: что же нам, православным, спасать его! Если же всепрощающее Божество и спасет, простит его — то это может совершиться такими путями и способами, о каких нам, земным мудрецам и поэтам, и не грезится! Может быть, в небесном милосердии найдут место и Каин, и Иуда, и другие.