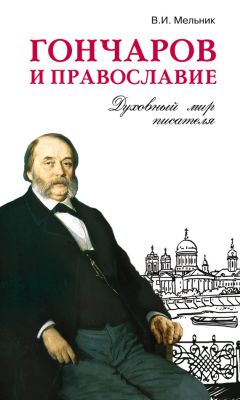Но тема эта, хотя и не новая, но прекрасная, благодарная и для мыслителя, и для поэта. У Вас она отлично расположена: душа, сбросившая тело, внезапно очутилась над трупом его; над ним горячо молится монах; бессмертная, „другая“ жизнь уже началась: какой ужас должен охватить эту душу, вдруг познавшую тщету земной мудрости и ложь его отрицаний вечности, Божества и проч.! И какое поле для фантазии художника, если он проникнет всю глубину и безотрадность отчаяния мнимого мудреца, все отрицавшего и прозревшего — поздно. Раскаяние по ту сторону гроба — по учению веры — не действительно: он, перешагнув за этот порог, должен постигнуть это, — т. е. что нет возврата, что он damnatus est[355].
Вот это отчаяние одно, по своему ужасу и безвыходности — могло бы быть достойною задачею художника! Образцом этого отчаяния и должна бы закончиться картина! Пусть он погибает! Он так гордо и мудро шел навстречу вечности, не верил вечной силе и наказан: что же нам, православным, спасать его! Если же всепрощающее Божество и спасет, простит его — то это может совершиться такими путями и способами, о каких нам, земным мудрецам и поэтам, и не грезится! Может быть, в небесном милосердии найдут место и Каин, и Иуда, и другие.
А у нас, между людьми, как-то легко укладываются понятия о спасении таких героев, как Манфред, Дон-Жуан и подобные им. Один умствовал, концентрировал в себе весь сок земной мудрости, плевал в небо и знать ничего не хотел, не признавая никакой другой силы и мудрости, кроме своей, т. е., пожалуй, общечеловеческой, — и думал, что он— бог. Другой беспутствовал всю жизнь, теша свою извращённую фантазию и угождая плотским похотям, — потом бац! Один под конец жизни немного помолится, попостится, а другой, умерев, начнет каяться — и, смотришь, с неба явится какой-нибудь ангел, часто дама (и в „Возрожденном Манфреде“ тоже Астарта) — и Окаянный Отверженный уже прощен, возносится к небу, сам Бог говорит с ним милостиво и т. д.! Дешево же достается этим господам так называемое спасение и всепрощение!
За что же другим так трудно достигать его? Где же вечное Правосудие? Бог вечно милосерд, это правда, но не слепо, иначе бы Он был пристрастен!
При том же „Возрожденный Манфред“ и в небо, в вечность, стремится через даму и ради нее и там надеется, после земного безверия, блаженствовать с нею и через нее, все-таки презирая мир. Но ведь он мудрец, должен знать, что в земной любви к женщине, даже так называемой возвышенной любви, глубоко скрыты и замаскированы чувственные радости. Зачем же искать продолжения этого в небе, где не „женятся, не посягают“ и где, по словам Евангелия, живут как Ангелы. Она, хотя возражает ему, что надо любить не ее одну, а все живущее, однако же уверяет потом, что она будет с ним вдвоем неразлучна. Эгоисты оба!»[356].
В этом отзыве Гончаров предстает как богословски подготовленный, догматически мыслящий христианин, знакомый с учением Церкви не только в общих чертах, но и по учению святых отцов[357]. Романист напоминает о том, что примирение человека с Богом не сводится к тому, что человек «немного помолится, попостится». Гончаров как бы напоминает Великому князю, что в основе такого примирения и прощения грехов лежит покаяние, которое выражается не столько в словах раскаяния или даже молитве, посте, но в серьезном, драматическом для человека исправлении своей жизни. Именно эту серьезность и должна контрастно подчеркнуть та «опереточная» стилистика, к которой обращается Гончаров: «Один под конец жизни немного помолится, попостится, а другой, умерев, начнет каяться — и, смотришь, с неба явится какой-нибудь ангел, часто дама» и пр. Настоящее покаяние необычайно трудно. Преп. Марк Подвижник говорит по этому поводу: «Если мы и до смерти будем подвизаться в покаянии, то и таким образом еще не исполним должного, ибо ничего достойного Царствия Небесного не сделали»[358]. Гончаров никогда не ссылался на святых отцов, никогда не обнаруживал перед кем-нибудь свою начитанность в богословской литературе, но, несомненно, был знаком с писаниями святых отцов, что так ярко обнаружилось в данном случае. Совершенно справедливо и второе его замечание: о том, что «раскаяние по ту сторону гроба — по учению веры — не действительно».
Касаясь свойств таланта К. Р. и объясняя его поэзию ему самому, Гончаров в письме от 13 сентября 1886 года отмечает прежде всего такое качество, как искренность. Причем снова заводит речь об искренности религиозной, как бы лежащей в основе искренности поэтической. Именно религиозная искренность, считает романист, может превратить «Эолову арфу» литературного ученика в «Давидовы гусли» оригинального поэта:
«Теперь позвольте обратиться к присланному Вами изящному томику Ваших стихотворений.
Ваше Высочество сделали мне дорогой подарок — и книгою, и ласковыми словами от Себя и от Великой Княгини. Вы точно живой водой вспрыснули меня: это действительнее всякой хины, микстур и пилюль действует на здоровье! Книгу Вашу, вместе с письмом, прижимаю пока к благодарному сердцу, а потом, когда отдохну, окрепну и оправлюсь, позволю себе уже головой ценить и разбирать достоинства и недостатки — и высказать при свидании откровенно свои впечатления и мнения. Теперь еще не могу: сил нет — ни физических, ни моральных.
Однако я успел перелистовать книгу и кое-что заметить. Прохожу молчанием „Манфреда“ и несколько библейских сказаний („Манфред“ мне знаком — я или слышал его в чтении от Вас самих, или он уже был напечатан — не помню). Этот „Манфред“, потом переложение библейских сказаний и даже перевод „Мессинской невесты“ — между прочим, и изучение древних классиков — есть не что иное, как подготовка к самостоятельному творчеству, воспитание, школа. Эту школу необходимо проходить молодому таланту, как необходимо живописцу копировать с античных статуй и бюстов, чтоб усвоить приемы и вообще технику великих образцов, прежде нежели он начнет создавать сам. Затем в книге собрано много чисто субъективных лирических излияний молодой музы, слышатся нежные, грустные, томные, как в Эоловой арфе, звуки. Такая Эолова арфа есть у всех молодых поэтов: она еще неясно, неопределенно высказывает впечатления, мысли, мечты, желания молодой неокрепшей в жизненном устое души. Потом, когда устоится и окрепнет сам поэт, Эолова арфа превратится в Давыдовы гусли — и будет, может быть, как у Пушкина, Лермонтова „глаголом жечь сердца людей“.
Об особенностях Ваших лирических излияний, если изволите припомнить, я когда-то писал в письме к Вам — и отнес это к счастливым признакам таланта. Это — искренность.