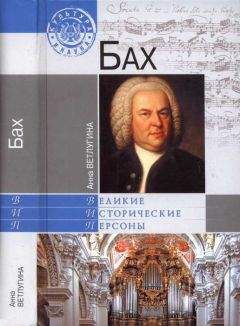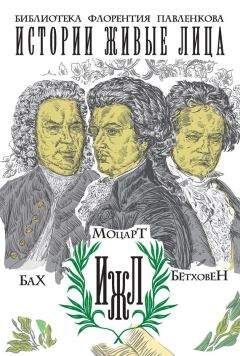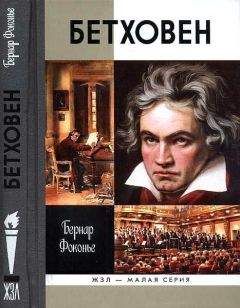Любопытно, но самые первые энтузиасты «баховского возрождения» занимались музыкой великого мастера, будто по «обязанности», а не по доброй воле. Как будто неведомая сила вдруг начала заставлять их штудировать работы давно умершего малозначительного композитора. Например, Карлу Фридриху Цельтеру, при содействии которого состоялось вошедшее в историю исполнение «Страстей по Матфею», при знакомстве с творчеством Баха приходилось буквально «продираться», преодолевая отторжение. Он пытался обвинить Иоганна Себастьяна в подражании французам и сам же оправдывал его. Цельтер хотел видеть у будущего национального героя безупречную биографию. Бах не подвел его. Цельтер в письме к Гёте сообщает: «Рассмотрев все, что могло бы говорить против него, я вижу теперь, что этот лейпцигский кантор — Божье явление, ясное и все же необъяснимое».
Бах всплыл на волне зарождавшейся идеи Volksgeist (народного духа), идеи, которая никогда не являлась основополагающей для него самого. Он не был фольклористом и в творчестве своем не так уж сильно опирался на народные немецкие песни, как это представлено в некоторых книгах о нем. Но, по большому счету, его действительно можно назвать выразителем немецкого Volksgeist — того самого немецкого менталитета, склонного к рефлексии и подарившего миру великую философскую школу.
В итоге, как сказали бы современные журналисты, Бах «удачно вписался в новый формат», а также был замечен «возрождением». Воодушевленный интерес начала XIX века снова сменился упадком. Рохлиц, преодолевая смущение, осмелился поставить Баха выше Генделя, но тут же заметил, что «катящееся колесо судьбы» только «на один момент вознесло высоко вверх достопочтенного отца Себастьяна». Не зная, как помочь этому горю, Рохлиц начинает сбор средств для последней, оставшейся в живых дочери великого мастера, живущей в нищете. Первым откликается Бетховен.
К окончательному возрождению Иоганн Себастьян пришел позже. Косвенным образом это произошло через родственников. Клан, помогавший композитору при жизни, не дал сгинуть ему после смерти. Возможно, главной «соломинкой спасения» стал не старательный Эммануэль, а беспутный, но любимый первенец Вильгельм Фридеман.
Сознательно он сделал мало хорошего для отцовского наследия. Со смертью отца словно надломился стержень в его душе. Он бросил семью и уехал из Брауншвейг, якобы начать новую жизнь. Но пристрастие к вину и прогрессирующая ассоциальность не позволили ему добиться успеха. Находясь то в пьяном угаре, то в похмелье, он не мог сочинять и выкручивался, исполняя отцовскую музыку под своим именем. Временами друзья находили его в канавах, отмывали, приводили в чувство, ссужали деньгами. После таких случаев он пытался взять себя в руки, только надолго благих намерений не хватало.
В конце жизни он осел в Берлине, где нашел нескольких учеников. Среди них была одна еврейская женщина. Сейчас уже не установить, какое она имела отношение к будущему феерическому представлению «Страстей по Матфею» в 1829 году в Берлине. Но навряд ли ей удалось остаться полностью непричастной к этому событию — ведь она была бабушкой еврейского юноши, организовавшего тот исторический концерт, — Феликса Мендельсона-Бартольди.
Глава третья.
РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ И БРАТЬЯ ПО ДУХУ
Январским утром 1829 года в кабинет к уже очень старому Карлу Фридриху Цельтеру ворвались два его ученика и с горящими глазами стали уговаривать помочь им с постановкой баховских «Страстей по Матфею». Старик чуть не спустил с лестницы обоих. Разумеется, он сам пристрастил молодых людей к партитурам лейпцигского мастера, но ставить это громоздкое, никому не известное и не нужное сочинение, к тому же написанное на непереносимо ужасное либретто! Цельтер не выносил баховских текстов. Все эти соображения он и высказал, причем довольно недружелюбно.
Младший из учеников, сын еврейского банкира Мендельсон, вспыхнул и собрался уйти, хлопнув дверью. Но его спутник — певец и актер Эдуард Девриент — решил попробовать на Цельтере силу своего убеждения.
— Самонадеянные молокососы! — проворчал старик. — Ну, попробуйте, попробуйте…
После Цельтера два друга отправились в Берлинский оперный театр — уговаривать солистов.
— Надо же! — сказал Мендельсон. — Ровно сто лет назад «Страсти» исполнялись в последний раз.
Девриент усмехнулся:
— Понадобились комедиант и еврейский юноша, чтобы оживить их.
Дальнейшее напоминало романтическую сказку о торжествующей справедливости. Абсолютно бесплатно собрался хор и оркестр в количестве более четырехсот участников. Безвозмездно работали солисты, отказавшиеся даже от контрамарок, музыканты самостоятельно переписывали для себя партии. В проекте участвовали прославленные инструменталисты и певцы. Идейные вдохновители взяли на себя ведущие роли — Девриент исполнял партию Христа, а Мендельсон дирижировал.
Еще не зная, какова окажется выручка с концерта, ее назначили на открытие бесплатной детской школы. Удивительно сильна была атмосфера бескорыстного служения, окутавшая этот проект. Сестра Мендельсона Фанни не побоялась обрушиться праведным гневом на самого директора Берлинской оперы, потребовавшего для себя два бесплатных пропуска.
Успех превзошел самые смелые ожидания. По воспоминаниям Фанни Мендельсон, «переполненный зал казался храмом». На протяжении всего концерта стояла благоговейная тишина, иногда прерываемая вздохами восхищения.
После берлинской премьеры «Страстей по Матфею» Бах получил множество поклонников, среди которых были не только музыканты. На ужине, устроенном смирившимся Цельтером, рядом с женой Девриента сидел странный, по ее мнению, господин. Он все время беспокоился: вдруг пышный рукав платья попадет к нему в тарелку.
— Кто этот дурак? — шепотом спросила красавица у Мендельсона.
Еврейский юноша поперхнулся. Потом все же справился с душившим его смехом и прошептал:
— Этот дурак рядом с вами — знаменитый философ Гегель[44].
Гегель глубоко проникся эстетикой лейпцигского кантора и начал пропагандировать его творчество среди своих коллег. Можно сказать, этот удивительный концерт открыл перед Бахом двери в мир современной философии. Правда, не все мыслители восприняли великого композитора однозначно. Шопенгауэр, придававший музыкальному искусству большое значения, Баха не оценил вовсе, поскольку тот не вписался в концепцию философа.
К сожалению, дальнейшие постановки «Страстей» не принесли такого же успеха. Основными популяризаторами Баха оставались музыканты. Они исполняли его музыку на концертах, играли в домашнем кругу, «заражая» им друг друга. Мендельсон, выступая как органист, составлял программы почти полностью из баховских сочинений. Именно он открыл эту музыку Шуману, и тот назвал ее красоту «гирляндами золотых листьев, излучающих блаженство». «…если потеряешь в жизни надежду и веру, — писал он Мендельсону, — один только этот хорал снова возвратит их». Еще одна фраза Шумана, ставшая хрестоматийной: «Бах работал в глубинах, где фонарь рудокопа грозит погаснуть». А вот слова Брамса: «У старика Баха всегда найдешь что-нибудь новое, а главное — у него можно поучиться». Однако широкая публика завоевывалась не так-то просто. Бах все еще существовал преимущественно в умах крупных композиторов и философов.