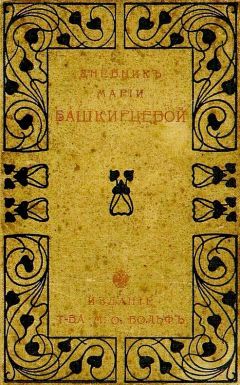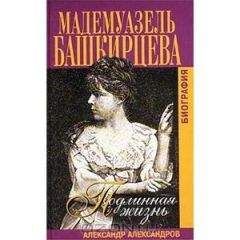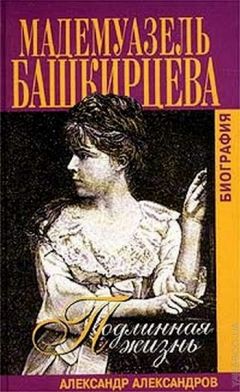— M-lle Вик.
— Вторая?
— M-lle Ванг.
— Третья?
— M-lle Бреслау.
— Четвертая?
— M-lle Нотлендер.
— Пятая?
— M-lle Форгамер.
— Шестая?
— Это m-lle Мари! — воскликнула полька.
— Я?
— Да.
— Но это странно.
Я между шестью первыми, Амелия, Зильгард и полька после меня.
Я последняя пришла в мастерскую, ибо нахожусь в ней только с третьего октября. Ловко!
Все стали поздравлять меня. M-lle Дельсарт сказала мне много любезностей, а сестра ее Мари назвала нас двух героинями конкурса.
— То, чего вы добились в такое короткое время, лучше чем медаль через четыре года учения.
Успех и какой чудесный успех!
Пятница, 30 ноября. Я наконец принесла в мастерскую свою мандолину и этот прелестный инструмент очаровал всех, тем более, что для тех, кто не слыхал его прежде, я играю хорошо. И вечером, когда я играла во время отдыха, а Амелия аккомпанировала мне на рояле, вошел Жулиан и стал слушать. Если бы вы посмотрели на него, то увидели бы восхищенного человека.
— А я думал, что мандолина нечто вроде гитары, я не знал, что она поет, а не скрипит, я и представить себе не мог, что из нее можно извлекать такие звуки. Как это мило! Черт возьми, никогда больше не буду бранить ее. Я тут провел, право, прекрасные минуты! А! это хорошо! Пусть смеются, если хотят, но уверяю вас, что оно… скребет по сердцу. Это смешно!
Ага, несчастный почувствовал!
Та же самая мандолина не имела никакого успеха, когда раз вечером я играла у нас перед обществом дам и кавалеров, которые во что бы то ни стало должны были говорить комплименты. Сильный свет, открытые жилеты и рисовая пудра разрушали очарование. Между тем как обстановка мастерской, тишина, вечер, темная лестница, усталость, располагают ко всему, что есть на свете приятного… смешного, милого, очаровательного.
Мое ремесло поистине ужасно. Восемь часов ежедневной работы, переезд, и особенно этот добросовестный, усидчивый труд. Ей Богу! Нет ничего глупее, как рисовать, не думая о том, что делаешь, не сравнивая, не припоминая, не учась, но и это все не утомляло бы.
Если бы дни были длиннее, я стала бы больше работать, для того, чтобы вернуться в Италию.
Я хочу добиться.
Суббота, 8 декабря. Была в театре; было очень смешно, смеялись всё время, — время потерянное, и я жалею о нем.
Я плохо работала эту неделю.
Можно бы порассказать много всякой всячины о мастерской, но я отношусь серьезно к своей мастерской и не занимаюсь ничем другим, что ниже меня.
Я жалею об этом вечере, я не была на виду и не занималась. Я смеялась, это правда, но это ни к чему не служит, раз оно мне неприятно, раз оно не доставляет мне удовольствия.
Воскресенье, 9 декабря. Доктор Шарко только что уехал отсюда. Я присутствовала на консультации и при том, что говорили доктора, так как я одна спокойна и так как ко мне относятся, как к третьему доктору. Во всяком случае сейчас нельзя ожидать катастрофы.
Бедный дедушка, я была бы в отчаянии, если бы он умер теперь, потому что мы часто ссорились; но так как его болезнь еще продолжится некоторое время, то у меня есть возможность искупить мою вспыльчивость. Я была в его комнате, когда ему было хуже всего… Впрочем мое появление около больных есть признак опасности, так как я ненавижу излишнюю суетливость и бываю взволнована только настолько, насколько себе позволяю.
Замечаете, как при всяком удобном случае я себя восхваляю?
Я увидела новую луну с левой стороны, и мне это неприятно.
Сделайте милость не подумайте, что я была жестка с дедушкой, я только обращалась с ним, как с равным; но так как он болел, то я жалею, что не переносила от него всего.
Мы его не оставляем одного, и он зовет всегда того, кого нет. Жорж около него, Дина всегда около постели, что само собой разумеется; мама больна от беспокойства, Валицкий, милый Валицкий бегает, и хлопочет, и ворчит, и утешает.
Я сказала, что хотела бы все переносить молча; я принимаю вид несчастной, с которой дурно обращаются; совсем нечего было и переносить, но я раздражалась и раздражала, а так как дедушка был тоже раздражителен, то я выходила из себя, отвечала резко и иногда бывала неправа. Я не хочу прикидываться ангелом, который прячется под маской злобы.
Вторник, 11 декабря. Дедушка не может больше говорить… Ужасно видеть человека, который еще так недавно был крепкий, энергичный, молодой, видеть его таким… почти трупом…
Я продолжаю рисовать кости. Я больше, чем когда-нибудь с Бреслау, с Шепи и другими, даже с швейцаркой.
Среда, 12 декабря. В час были священник и дьякон дедушку исповедовали. Мама громко плакала и молилась; потом… я пошла завтракать. Дело в том, что животное неизбежно во всяком человеке.
Суббота, 22 декабря. Робер-Флери сказал мне следующее — никогда не следует быть довольным собою. Жулиан говорит то же самое. Но, так как я никогда не была довольна собой, то принялась размышлять над этими словами. И когда Робер-Флери сказал мне много приятных вещей, я отвечала ему, что он хорошо сделал, сказав мне их, потому что я совсем собой недовольна, обескуражена, в отчаянии, — что заставило его широко раскрыть глаза от удивления.
И действительно я была обескуражена. С той минуты, как я никого не изумляю, я обескуражена; это несчастье!
В конце концов я сделала успехи неслыханные; у меня, — мне это повторяют — «необыкновенные способности». У меня выходит «похоже», «цельно», «верно». — «Чего-же вы еще хотите? Будьте благоразумны», — закончил он.
Он очень долго оставался около моего мольберта.
— Когда рисуют так, — сказал он, указывая на голову, потом на плечи, — то не имеют права делать таких плеч.
Швейцарки и я ходили потихоньку к Бонна, чтобы он принял нас в свою мужскую мастерскую. Понятно, он объяснил нам, что эти пятьдесят молодых людей находятся без призора, что это абсолютно невозможно. Потом мы отправились к Мункаччи, венгерскому художнику, у которого роскошный отель и большой талант.
— Он знает швейцарок: у них было к нему, год тому назад, рекомендательное письмо.
Суббота, 29 декабря. Робер-Флери был очень доволен мною. Он около получасу пробыл перед парой ног в натуральную величину, которые я рисую и снова спрашивал, рисовала ли я прежде, серьезно ли решилась заняться живописью? Сколько времени могу оставаться в Париже? Выразил желание видеть мои первые опыты красками, спрашивал, как я их писала? Я отвечала, что писала для забавы. Так как разговор продолжался, подошли остальные, стали сзади него и, среди (я могу это сказать) всеобщего изумления, он объявил, что если мне очень хочется, то я могу писать красками.