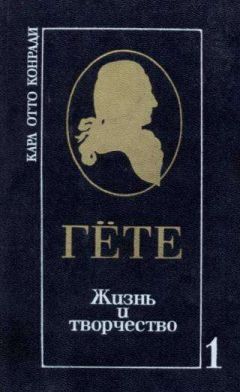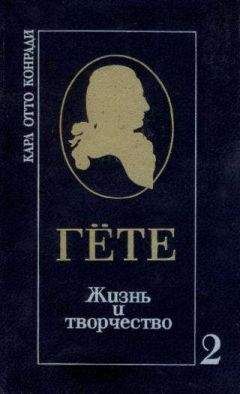Однако важнейшим событием путешествия по Лану и Рейну, которое довело до Дюссельдорфа, была встреча с братьями Якоби, особенно с Фридрихом Генрихом (Фрицем) Якоби. В Дюссельдорфе сначала
267
разминулись, но затем встретились в Эльберфельде, где отпраздновали также свидание с Юнг–Штиллингом. Первое знакомство состоялось в кружке пиетистов, собравшемся в честь Лафатера. За этим последовал двухдневный визит в Пемпельфорт, загородный дом семейства Якоби, тогда еще в предместье Дюссельдорфа. Это были дни непрерывного доверительного общения. В нем участвовал и Вильгельм Гейнзе, автор только что появившейся стихотворной повести «Лайдион, или Элеузинские тайны», по поводу которой Гёте высказался в письме к Шёнборну от 4 июля 1774 года. Он писал, что эта штука, страстные, горячие мечтания похотливых граций, оставляет далеко позади Виланда и Якоби. Никто в те времена не требовал в литературе такой свободы для чувственности, эротики и страсти, как этот самый Гейнзе (его роман «Ардингелло» появился лишь в 1787 году); ему приходилось с трудом пробивать себе путь, временами он писал под псевдонимом Рост. Под тем же именем он редактировал в Дюссельдорфе журнал Георга Якоби «Ирис».
После Пемпельфорта отправились вместе в замок Бенсберг в Бергише и затем в Кёльн. Дружеские беседы во время этого путешествия навсегда остались в памяти Гёте и Фрица Якоби. Когда Гёте писал «Поэзию и правду», Якоби напоминал 28 декабря 1812 года: «Смотри не забудь описать наши посещения дома Ябаха в Кёльне, а также замка в Бенсберге; а помнишь ту беседку, где ты рассказывал мне о Спинозе, это было замечательно; зал в гостинице «Цум Гайст», откуда мы смотрели, как месяц восходит над Зибенгебирге, а ты сидел на столе и читал нам в темноте стихи, романс: «То был соперник, смелый…» — и другие. Незабываемые часы, незабываемые дни! В полночь ты снова пришел ко мне. Душа моя как будто бы вновь родилась. С того момента я знал, что связан с тобой на всю жизнь».
В «Поэзии и правде» (рассказ об этих днях не вполне надежен хронологически) есть такое воспоминание: «Лунный свет дрожал над широкой гладью Рейна, и мы, стоя у окна, как будто качались взад и вперед на широких волнах полноводной реки» (3, 531).
Загадочные и таинственные дружеские узы
Гёте и братья Якоби. До сих пор это было напряженное взаимонепонимание. Критические выпады Гёте
268
против них и Виланда звучали надменно в стремлении утвердить свои собственные позиции. Правда, с Бетти, женой Фридриха, он находился с 1773 года в любезнейшей переписке. И еще один человек служил связующим звеном через все раздоры — Иоганна Фальмер, тетка братьев Якоби: 1772—1773 годы она прожила во Франкфурте и заслужила симпатию Гёте. И вот теперь, в конце июля 1774 года, личная встреча уничтожила разом все недоразумения и противоречия. Возник непосредственный контакт, сразу же установилось взаимное доверие, каждый чувствовал, что можно быть самим собой, находясь в обществе единомышленников, ничего не опасаться. Конечно, здесь играл свою роль и тот стиль «чувствительного общения», который был свойствен эпохе.
Вряд ли мы когда–нибудь сумеем ответить на вопрос, как могла столь внезапно возникнуть такая страстная дружба. Можно предположить, что главной точкой соприкосновения стала яркая эмоциональность и необычайная чуткость к душевному состоянию партнера. Доверие к собственной субъективности и субъективности партнера без потребности в поучениях и стремлении убедить в своей правоте — об этом сохранилось много свидетельств разных лет. «Ты почувствовал, что для меня блаженство быть предметом твоей любви. О, это замечательно, что каждый надеется получить от другого больше, чем дает ему сам», — писал Гёте по возвращении своему новому другу (13—14 августа 1774 г. [XII, 151]). А Фриц Якоби в письме к Софи фон Ларош: «Гёте — это тот человек, к которому стремилось мое сердце. Он в состоянии выдержать, вынести весь жар моей души» (10 августа 1774 г.). И ретроспективно, спустя почти сорок лет в «Поэзии и правде»: «Между нами не обнаруживалось разногласий на почве понимания христианства, как с Лафатером, или на почве дидактики, как с Базедовом. Мысли, которыми делился со мной Якоби, возникали непосредственно из его чувств, и как же я был поражен и растроган, когда он с безусловным доверием открыл мне глубочайшие запросы своей души» (3, 529).
И тут прежде всего прозвучало имя Спинозы. Незабываемо, как вспоминал Якоби, говорил о нем Гёте, видимо не входя в подробности, иначе, надо думать, они вновь стали бы чужими. Лишь много позднее оба мыслителя разошлись, и как раз из–за Спинозы. Спинозианство в 1774 году давно уже было спор–269
ным понятием, так как оно расходилось с христианством в представлении о боге. Уже говорилось о том, что опубликованный Якоби гимн Гёте «Прометей» «явился искрой для взрыва, обнажившего самые потайные отношения между достойнейшими людьми…» (3, 542). Прочитав «Прометея», Лессинг высказался позитивно о пантеизме Спинозы. Но тот, кто выразил симпатию к философу из Нидерландов, попадал под подозрение как атеист. Вообще–то говоря, это было бессмыслицей, потому что Спиноза (1632—1677) самым определенным образом высказался за идею бога (тезис № 14 его «Этики»: «Кроме бога, никакой иной субстанции не может существовать и никакая иная субстанция не может быть воспринята»). Но это не означало подтверждения христианского бога. Уже Пьер Бейль в своем «Историческом и критическом словаре» (1738) обвинил Спинозу в атеизме, надолго опередив общественное мнение. Когда студент Гёте записал в свои «Эфемериды» мысль, близкую к Спинозе («Говорить о боге и о природе вещей отдельно…» — см. с. 115 наст. книги), он закончил неким выпадом против спинозианства, который, впрочем, был всего лишь данью господствующим представлениями.
Для Спинозы бог — это всеобщая сущность, всеобщая основа существующего. Продолжение мысли, материи и духа (которые различал Декарт), все вещи, идеи есть для него составные части, модификации одной субстанции, божественной. Следовательно, основа отдельных вещей заключена не в них самих, а в этой самой субстанции. (Только она, бог, заключает свою основу в самой себе (является causa sui). Все прочее сущее относится, таким образом, к сущности субстанции, которая в нем проявляется. «Все, что есть, есть в боге, и ничто не может быть или быть понятым без бога» (тезис № 15 «Этики»). Этот взгляд с полным правом можно было назвать пантеизмом. Совершенно очевидно, что мир и природа получают здесь большее значение, чем до сих пор. То, что бог включается в мир, стирает различие между ними. Гердер признавал уже в 1769 году: «Спиноза считает, что все существует в боге […], это значит, что бог невозможен без мира, а мир невозможен без бога». Все это ни в коей мере не сбивало Гёте с толку в его усилиях составить собственное философски–религиозное представление о мире, которые он предпринимал с момента возвращения из Лейпцига в 1768 году.