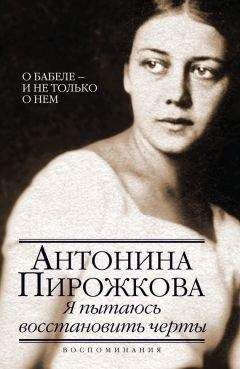Деньги Бабелю нужны были не только для содержания нашего московского дома, но и для помощи дочери и матери, находившимся за границей. Кроме того, у него чрезвычайно легко можно было занять деньги, когда они были, чем постоянно пользовались его друзья и просто знакомые. Долгов же ему никто не отдавал. Из-за этой постоянной потребности в деньгах Бабель вынужден был брать заказы для кино. Работа Бабеля в кино всегда была, как он говорил, «для денег, а не для души». Иногда он писал к кинокартине с уже готовым сценарием диалоги, но чаще всего переделывал сценарий или писал с кем-нибудь из режиссеров новый. В 1934 году Бабель писал киносценарий по поэме Багрицкого «Дума про Опанаса», фильм должен был сниматься на Киевской кинофабрике. В 1935 году вместе с режиссером Юлием Райзманом он переделывал сценарий фильма «Летчики» и писал к нему реплики и диалоги. Диалоги, написанные Бабелем, заметно отличали этот фильм от других. Выше уже говорилось, что в 1936 году Бабель переделывал сценарий и писал реплики к фильму «Бежин луг» с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном; упоминала я и о том, что этот фильм начал сниматься, но потом был запрещен и на экран так и не вышел. В процессе работы над ним Эйзенштейн ездил по церквям в поисках реквизита, заразился оспой и долго болел, находясь в полной изоляции. Работал Бабель и с режиссером Борисом Васильевичем Барнетом, но не помню, над какой картиной[35]. В 1938 году, я уже писала об этом, работал над сценарием к фильму «Как закалялась сталь», в 1939-м в очень короткий срок им был написан киносценарий «Старая площадь, 4». Некоторое участие в работе принимал сценарист Владимир Михайлович Крепс, но все же Бабель считал этот сценарий своим. И в эти же 1938–1939 годы Бабель работал над сценарием к фильму «Мои университеты» по Горькому, режиссером которого был Марк Донской. Работал много, однако после ареста Бабеля Марк Донской стал считаться единственным автором сценария.
Бабель заново переводил рассказы Шолом-Алейхема, считая, что они очень плохо переведены на русский язык[36]. Переводил он из Шолом-Алейхема и то, что никем не переводилось ранее, и однажды прочел мне один из таких рассказов. Два украинца-казака варили кашу в степи у костра. Шел мимо по дороге оборванный, голодный еврей. Захотели они повеселиться и позвали его к своему костру отведать каши. Еврей согласился, и ему дали ложку. Но как только он, зачерпнув кашу, поднес ложку ко рту, один из казаков ударил его своей ложкой по голове и сказал другому: «Твой еврей объедает моего, так он съест всю кашу, и моему еврею ничего не достанется». Другой тоже стукнул еврея ложкой по голове и сказал: «Это твой еврей не дает моему поесть». И так они его били, причем каждый из них делал вид, что заботится о своем еврее, а бьет чужого…
Работа Бабеля с рассказами Шолом-Алейхема была, как он выражался, «для души». «Для души» писались и новые рассказы, и повесть «Коля Топуз».
— Я пишу повесть, — говорил он, — где главным героем будет бывший одесский налетчик типа Бени Крика, его зовут Коля Топуз. Повесть пока что тоже так называется. Я хочу показать в ней, как такой человек приспосабливается к советской действительности. Коля Топуз работает в колхозе в период коллективизации, а затем в Донбассе на угольной шахте. Но так как у него психология налетчика, он все время выскакивает за пределы нормальной жизни. Создается много веселых ситуаций…
В апреле 1939 года Бабель уехал в Ленинград. Через несколько дней я получила телеграмму от И. А. Груздева[37]: «У Бабеля сильнейший приступ астмы. Срочно приезжайте. Груздев».
У меня возникло сомнение — не розыгрыш ли это? Я помнила, как Бабель в 1935 году, когда мы были в Одессе и мой отпуск кончился, захотел оставить меня еще на неделю и раздобыл мне бюллетень. В кафе гостиницы «Красная» в кругу друзей долго обсуждался вопрос, какую болезнь придумать. Перечислялись всякие болезни, пока наконец кто-то не предложил — воспаление среднего уха, что вызвало веселый смех всей компании и было принято. Этот бюллетень я показала начальству в оправдание своего опоздания, но в бухгалтерию его не сдала.
В Ленинграде на вокзале меня встретил веселый и вполне здоровый Бабель вместе с моей подругой Марией Всеволодовной Тыжновой (Макой) — в Москве я поручила ему передать Маке письмо, и это поручение превратилось в их прочное знакомство. Бабель не только подружился с Макой, но и по особой причине зачастил к ним в дом.
В старинном доме на углу Мастерской улицы и канала Грибоедова, где сохранилась еще большая комната с лепными амурами на потолке, зеркальными простенками с позолоченным обрамлением и гипсовой маской Петра Первого на стене, жили, помимо Маки, ее бабушка, тетка с семьей и холостяк дядя Владимир Владимирович Лермонтов.
Из разговоров с Владимиром Владимировичем Бабель узнал, что в доме хранится архив дяди поэта, и, конечно, захотел его посмотреть. А потом стал приходить часто, чтобы читать бумаги из этого архива. Помню, он рассказывал мне, что дядя Лермонтова был женат два раза и в своем дневнике записал: «Первая жена — от бога, вторая — от людей, третья — от дьявола». После смерти очень любимой им первой жены он остановил часы, которые с тех пор не заводились ни при его жизни, ни после его смерти. Очень интересно было читать расходные книги Лермонтовых, где было записано, сколько заготовлено на зиму возов дров, сена, мяса, свечей и что почем. Среди прочих расходов Бабель нашел запись: «1 рубль жидам на свадьбу». Эта запись очень его развеселила, и он потом часто ее вспоминал. Этот архив хранится теперь в Пушкинском Доме.
В Ленинграде Бабель закончил работу над киносценарием «Старая площадь, 4».
Мы пробыли в городе на Неве несколько дней. Были в гостях у И. А. Груздева, жена которого оказалась, как и я, сибирячкой и угощала нас домашними пельменями; много гуляли по городу, ездили в Петергоф и посещали Эрмитаж. Ходили туда три дня подряд после завтрака до обеда. Никогда после этого я не осматривала Эрмитаж обстоятельнее, чем с Бабелем в том году. В эти дни (20 апреля) Бабель писал своей матери:
«Уф! Гора свалилась с плеч… Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий. Теперь, пожалуй, примусь за «честную» жизнь… В Москву уеду 22-го вечером. В Эрмитаже был уже — завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце… Пойду погулять после трудов праведных…»
И 22 апреля: «Второй день гуляю — к тому же весна… Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времен 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменноостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу. Сегодня ночью уезжаю».