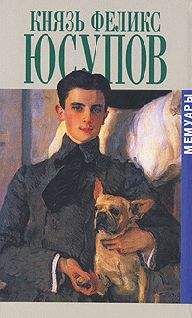Вместо выговора или отозвания из Парижа, Моркову был отправлен с курьером орден св. Андрея. Морков явился на первую же аудиенцию к Бонапарту, украшенный пожалованным орденом, с видом еще более гордым и более самодовольным, чем обычно.
На этот раз первому консулу не удалось поставить своего противника в смешное положение. Но, хотя самолюбие графа Моркова и одержало победу, он все же не захотел дольше оставаться в Париже и, считая свою карьеру оконченной, просил отозвать его.
Я остаюсь один во главе министерства. События и переговоры 1804 г. Война 1805 г.
Я подхожу к самому выдающемуся периоду моей жизни. До сих пор я играл в министерстве второстепенную роль, теперь ответственность ложилась всецело на меня одного. Канцлер хотел удалиться от дел лишь временно; но император подготовлял все к его окончательному уходу. Александру непременно хотелось иметь меня министром иностранных дел. Это был один из тех капризов, какие часто являлись у Александра, и он не мог успокоиться, пока не удовлетворял их. Если подобная фантазия приходила ему в голову, он постоянно возвращался к ней и всячески стремился к ее достижению; тогда он уже не рассуждал, насколько она была хороша или дурна, полезна или вредна, его занимала лишь мысль устранить все препятствия. Добившись успеха, он успокаивался и часто начинал относиться равнодушно и даже враждебно к тому, чего так горячо добивался.
Наконец, канцлер категорически объявил, что здоровье его требует временного отдыха. Тогда явился вопрос о его заместителе. Я спросил его, кого он думает оставить на своем месте. «Вас, конечно, ответил он мне, это в порядке вещей и иначе и быть не может». Как известно, таково же было и желание императора, исполнения которого он ждал с большим нетерпением. Что мне было делать? Должен ли я был принять на себя такой трудный и опасный пост? Не лучше ли было мне удалиться, отказавшись от всего? Но я думал об этом следующее: отстраняясь от дел, я ничего не выигрывал в общественном мнении; заняв столь важный пост, я буду подвергаться тем же подозрениям и клеветам не больше, чем раньше. Удалиться же сейчас, значило отступить перед трудностями и доказать, что я не чувствую в себе достаточно сил на борьбу с ними. К голосу самолюбия присоединилась еще и мысль высшего порядка, успокаивавшая мою совесть: я льстил себя надеждой создать политическую систему, которая, основываясь на принципах справедливости, могла бы со временем оказать счастливое влияние на судьбы Польши. Я уже предвидел разрыв с Францией. Русские всегда подозревали меня в желании склонить русскую политику к тесной связи с Наполеоном, но я был далек от этой мысли, ибо для меня было очевидным, что всякое соглашение между этими двумя государствами было бы гибельным для интересов Польши! Итак, не было, следовательно, ничего, что бы останавливало меня от вступления на путь, уготованный мне стечением обстоятельств.
К тому же, окружавшие меня друзья со всех сторон настаивали, чтобы я принял на себя эту обязанность. Император не допускал ни малейшего возражения по этому поводу. Молодые люди, мои коллеги, не хотевшие, чтобы из-за моего ухода распадалась наша партия, и все, до старого канцлера включительно, казалось, будто сговорились заставить меня занять эту должность. Канцлер уезжал с уверенностью, что возвратится, но не прошло и года, как состояние его здоровья, а может быть, и прелести спокойной жизни заставили его изменить свое намерение. Он написал мне, что решил оставить службу, но что не просит еще отставки из боязни отдать меня во власть всех интриг, которым подвергнет меня его уход. Уезжая, он говорил мне, что по его возвращении дом его будет, как подобает дому канцлера, открыт для всех. До сих пор он никогда не приглашал к себе ни одного члена дипломатического корпуса. Он сам говорил, что это неловко, и строил большие планы относительно того, как в будущем исправить это нерадение. Оставляя меня на своем посту, он был уверен, что передает свою должность человеку, который будет сердечно рад его возвращению; поэтому, покидая Петербург, он употребил все свое влияние в присутственных местах и среди некоторых старых сенаторов, чтобы заручиться их поддержкой в мою пользу. Но большего он сделать не мог. Он совершенно не пользовался влиянием среди наиболее отзывчивой к государственным делам части русского общества.
Канцлер обещал часто писать мне и наставлять своими советами. Действительно, он завел со мной обширную переписку, которая меня очень тронула, как доказательство его дружбы ко мне; но вскоре я не мог ни поддерживать ее, ни даже внимательно читать всего, что он мне писал, ввиду того небольшого количества свободного времени, которое у меня оставалось от дел.
Как я уже говорил, друзья мои всячески убеждали и уговаривали меня остаться и занять пост министра внутренних дел. Говорю — остаться, так как было ясно, что, отказавшись, я не мог бы не покинуть двора. Ввиду намерения канцлера возвратиться на свой пост, было весьма естественным, что он не желал, чтобы временным его заместителем был кто-либо иной, кроме меня. Что же касается императора, то, помимо его общего ко мне расположения, он также находил, что наиболее спокойным будет не производить в министерстве никаких перемен и, за отсутствием министра, предоставить вести дела товарищу министра.
Из-за тесного кружка сплотившихся вокруг меня, расположенных ко мне, я не слышал бешеных криков, раздававшихся при одном только предположении, что мне будет предоставлено управление делами внешней политики.
Наконец, канцлер уехал. Я согласился замещать его, и император радовался, как ребенок. Но партия русской молодежи не скрывала своего возмущения и гнева. Даже сама императрица Елизавета усматривала в моем согласии дурные намерения, или, по крайней мере, неделикатность по отношению к императору; по ее мнению, пост этот, требовавший такого огромного доверия, я согласился принять вопреки желанию общества (так, по крайней мере, ей казалось); и она была убеждена, что я отнимаю у императора любовь народа.
Императрица перестала после этого со мной говорить, кланяться и даже смотреть на меня. Она употребляла все меры, чтобы не оставить во мне никакого сомнения о причинах этой немилости, которая длилась более года и прекратилась лишь после возвращения из Аустерлица. Таким образом, я имел дело с сильным противником, но, раз приняв решение, я ничем не смущался и думал только о том, чтобы как можно лучше справиться со своей задачей.
Случилось так, что как раз во время перемены, поставившей меня во главе министерства, некоторые известные русские дипломаты находились в Петербурге. Я говорил уже о графе Моркове; уход канцлера, по-видимому, еще более укрепил его решение оставить дипломатическую карьеру. Назначенный членом совета, он удалился в свои поместья в Подолии, подаренные ему Екатериной, отдыхать на лаврах дипломата. Там он только и делал, что изливал желчь в бесконечных процессах с соседями. Все время, как он был в Петербурге, я вменял себе в обязанность советоваться с ним о текущих делах и о затруднениях, возникавших с первым консулом. Он благоволил не отказывать мне в своих советах, которые всегда давал с холодным и презрительным видом сознания своего превосходства, и уехал, я думаю, убежденный в том, что дела России впадут в полное расстройство, благодаря способу их ведения. Он не всегда скрывал свое раздражение и показывал, что мало придает значения личности Александра, хотя это и не мешало ему падать ниц перед одним только словом своего властелина. Он умер, кажется, до войны 1812 года.