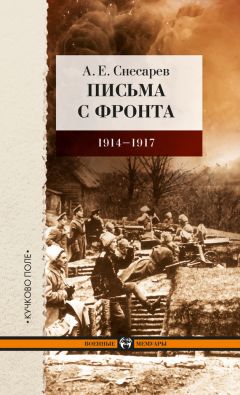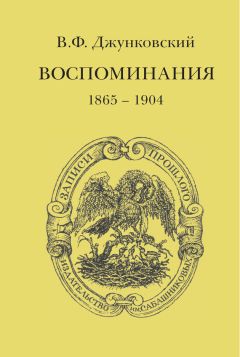Впрочем, я должен начать сначала. Два часа тому назад я уже хотел взяться за перо, но ты мне все мешаешь: прислала мне ноты, и я вою без умолку… кричу, кричу про гусаров-усачей, а затем начинаю подвывать, что фиалок уж нет… Будь один романс, может быть, устал бы, а их два и разные: на одном устану, отдыхаю на втором… А ты – не знаю, заметила ли, если я налажу петь что-либо, то это продолжается довольно долго… Но и это еще не начало. Сегодня утром получил три твоих посылки, посланные, вероятно, в разные времена, а полученные сразу, при них четыре открытки от 6, 7, 9 и 11 января (ни в одной из них, вероятно, по рассеянности, ни о какой болезни… правда, первое письмо было написано какими-то подозрительными каракулями); едва мы успели их раскрыть и высказаться с Осипом (он был рад, как ребенок… я держал себя сдержанно, как мне и подобает) по их содержанию, как вваливается с ящиком Назаренко. Но тут уже пошла канитель: Наз[аренко] начал рассказывать, а мы пятеро обступили его кругом и слушали… пятеро: я, Осип, Трофим, Кара-Георгий и Иван (денщик адъютанта). Назаренко немного стеснялся пред десятью глазами, которые его ели бесцеремонно, но все-таки старался ответить на все вопросы. Когда он, по слабости психологических знаний, начал было говорить, что он с Таней ходил в театр, то одного из слушателей передернуло надвое, и, нервно хихикая, он бросил фразу: «Ишь, кавалер нашелся…» Но подошли другие темы, и вновь пять ртов заняли свое полуоткрытое состояние. Наз[аренко] подробно описал твою болезнь (конечно, как и нужно ожидать, она приключилась на почве постоянно практикуемого человеколюбия)…
Ах, моя женка, моя ненаглядная деточка, как тебе не стыдно и не грех не беречь себя! Таня написала очень ругательское письмо; конечно, она человек понятий эгоистичных, Осип, напр[имер], по поводу твоей филантропии выражается всегда мягко, она в натуре его, но все же Татьянка, несомненно, права – и когда говорит, что ты хоть и генеральша (а зовет ли она тебя Ваше Пр[евосходительств]о!), а ведешь себя как 17-летняя девочка, и когда чертями ругает твоих обитательниц и визитерш… Она в письме не забывает даже упомянуть, как теперь все дорого и какой хороший аппетит у ее «личных» врагов. Да, она права относительно чужих, конечно. Что у нас (по словам Наз[аренко]) поселилась и Надя, это очень хорошо… это свои, и они мне рисуются какими-то бесприютными и сиротливыми, даже Леля, не говоря уже про Надю… Пусть они хотя под нашей кровлей найдут приют, ласку и свободу, сопряженные с тихим и добрым руководством…
Вставал к роялю и пропел про трубачей, как трубокуры выкуривают папироску…
Мне Архангельского благодарить неудобно: 1) он меня просто известил, а 2) он мне почти товарищ… не стоит из маленькой услуги делать большое дело. Если как-нибудь увидишь, поблагодари, а нет, то и так обойдется.
Опять вставал. По пути с позиций заезжал начальник дивизии в гости с начальником штаба, поболтали о том и о другом… угощал их конфетами; предлагал на дом – отказались. Видишь, моя золотая цыпка, какая у меня суета, никак не могу начать. Дело вот в чем: начальник дивизии в случае моего перевода обещал мне отпуск. Я поднимал вопрос о том, чтобы заехать хоть в Киев, и хотел вызвать тебя туда, но он мне сам предложил отпуск в Петроград… Ты, вероятно, догадываешься, что я не отказался. Один из командиров полков в разговоре с другим офицером (до меня дошло через несколько рук) выразился, что «начальник дивизии уважает генерала Сне[саре]ва и ни в чем ему не откажет». Это «уважает» очень характерно и, пожалуй, очень метко характеризует отношение ко мне н[ачальника] дивизии. Во всяком случае, моя тоненькая (и, вероятно, очень) девочка, Бог даст, мы скоро увидимся, а значит, карты тебе гадали очень верно.
Сейчас беседовал с Назаренко на ту тему, что ему очень невыгодно будет идти ко мне, так как ему предстоит унтер-офицерство и старшинство над бомбометами. По-видимому, я его убедил. Парень очень хороший, и я бы не отказался от него… но не хочу быть большим эгоистом. Когда поеду в Петроград, возьму с собою Осипа, а вещи отсюда направлю прямо на новое место. Думаю заехать в Москву и остановиться на несколько часов у Каи [Комаровой]… а если сильно устану, то, пожалуй, и переночую, особенно, если буду иметь в виду сбор родных, что живут в Москве.
На твое предложение работать с Анатолием Иосифовичем ответил согласием в телеграмме и упомянул об этом в двух письмах. Это – третье.
Осип читал мне письма к нему Тани: страшно они оба ревнуют друг друга. Кто из них больше прав, сказать трудно. Осип на моих глазах, и я за него ручаюсь полностью. Если ты в такой же мере ручаешься за Татьянку, то, значит, они оба правы. Не стала ли она, действительно, чересчур рядиться? Аккуратность-то аккуратностью, но лишь бы не свыше необходимого. Надеюсь, моя девочка, что ты чувствуешь себя лучше и к моему приезду будешь вполне молодцом.
Давай твои глазки и лапки, а также малых (Гене напишу завтра), я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Благодарю папу за доброе письмо. Целуй его и маму, а также Надю и Лелю. А.
21 января 1916 г.Дорогая моя женушка!
Это письмо тебе перешлет, а может быть, и лично занесет Вера Михайловна Романович, сестра милосердия нашего передового отряда. Я ее видел два раза, раз на празднике в 134-м Феод[осийском] полку и раз у нас; оба раза она приходила с другой сестрой… какая-то шведская фамилия. Хорошо ли она меня заметила, не знаю, но если она посетит тебя, то рассказать она тебе кое-что может.
Сейчас я пью чай, как дома, т. е. очень сложно. Хлеб я намазываю маслом, сверху икру и прибавляю еще кусок груши… значит, бутерброд из четырех элементов: сверх сего прибавляю печенье Тани – 6. А в чай сверх сахару кладу варенья. Выходит 9 элементов, и очень вкусно… и никаких последствий: Бог грехам терпит. Мой адъютант – пьющий утром чистый чай – смотрит на меня не без содроганья. На мой вопрос, отчего он пьет пустой чай, отвечает, что утром боится за свой желудок. «А у тебя-то, В[аш]е Пр[евосходитель]ство, – читаю я в его глазах, – чрево-то, видно, луженое, если уплетаешь такое месиво».
Третий день вою военную песню: просто, ярко и хорошо. А когда досмотрелся, что в последней строфе говорится о «потухших глазках» (т. е. старушка), то мне это так понравилось, что я завыл еще более. Ты права, милая, твой муж – мечтатель и фантазер; ход мыслей и ход впечатлений создается у него не по-людевому; его взор часто останавливается, тоскует или радуется над такими вещами, мимо которых другие люди проходят с полным равнодушием. Эту особенность подмечали у меня еще у маленького; а мои товарищи по университету частенько надо мною смеялись по этому поводу. Называли меня «хайба» (что-то неопределенное по смыслу) и рисовали так же какими-то неопределенными штрихами.