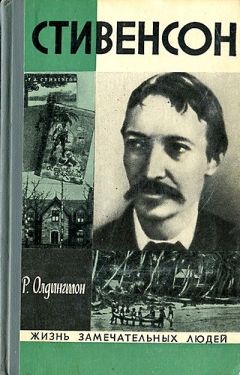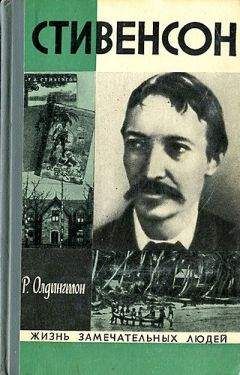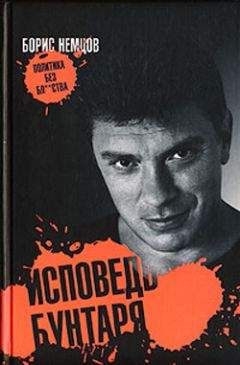Не все эти стороны жизни Стивенсона Олдингтон рассматривает подробно, а кое-что он просто опустил. Едва затронул он заметную литературную дискуссию, в которой участвовал Стивенсон, и почти ничего не сказал о лондонском литературном клубе. Именно эта дискуссия сначала столкнула, а потом примирила Стивенсона с Генри Джеймсом, приведя его, таким образом, к беседам о Тургеневе. И тогда эта дискуссия, конечно, не закончилась, она идет и по сей день — о том, насколько литература соответствует жизни? Тема «вечная», но Стивенсон и его оппоненты говорили об этом уже современно — современным языком, пользуясь современными понятиями и современным подходом, разными, развившимися в наши дни подходами. Типичен и литературный клуб, членом, украшением и законодателем которого был Стивенсон. Все сколько-нибудь значительные писатели того времени входили в этот клуб. Там был и Киплинг, и Райдер Хаггард, и Герберт Уэллс — словом, все, кого мы и сейчас читаем. (Не было Оскара Уайльда, но его просто не приняли, конечно, не по литературным причинам.)
Жизнь кипела в этом клубе, литературная жизнь. Упорядоченных заседаний не было, а просто шло общение литераторов между собой. Завязывались знакомства, заключались соглашения с издателями, задумывались (подсказывались) сюжеты — все в том же клубе. Теперь и это привычно, но тогда было новшеством. Нова была открытость, обобществленность творческой деятельности, писательство на людях, так сказать. Собирались писатели вместе и в давние времена. Бывали таверны, излюбленные пишущей братией, как та же шекспировская «Русалка»; были литературные кофейни, где царил Свифт (а Дефо туда не пускали и по причинам литературным), но все это было между прочим, а этот клуб, называвшийся «Сэвил» и расположенный в самом центре Лондона, полностью принадлежал литераторам, был литературным учреждением. Подводя итоги его деятельности, историки вспоминают, что там Киплинг встретился с Хаггардом, там Стивенсон рассыпал острые замечания, сохраненные для потомства мемуаристами, но главное, конечно, атмосфера, насыщенная литературными интересами. Тут уж исчислению не поддается, сколько идей или хотя бы намеков на идеи возникло в этих стенах, сколько голов наэлектризовалось в этой атмосфере… Но и пены там накипало достаточно!
Собственно говоря, поэтому Олдингтон, должно быть, и не удостоил особенным вниманием клуб «Сэвил»: очень уж не любил он этой пены. Видимо, в силу тех же причин — знал слишком хорошо, до оскомины! — сказал он немного, хотя метко, и о таком явлении, как «литературная стратегия». Олдингтон ограничился намеками, а следовало бы их развить, потому что и здесь оказался Стивенсон среди зачинателей.
Это возвращает нас к легенде о Стивенсоне, но, с другой стороны, не той, что десятилетиями разделяла родных, друзей и поклонников писателя на группировки. Родственники и друзья, которых обычно в создании легенды упрекали, только поддерживали ее, редактировали, стараясь сделать Стивенсона в большей или меньшей степени похожим на «хорошего человека». Но творцом легенды был сам Стивенсон, и у него имелись свои задачи. «Я не из тех, — говорил он, — кто забывает свою жизнь».
Биография была для Стивенсона тоже творчеством. Когда не писал за столом, он творил повесть своей судьбы. Повторял жизнь своих персонажей, проверял в действии сюжеты будущих книг. Все — в известной мере — это подчеркнуть необходимо, чтобы не возникло контраста с морем чернил и только чернил, которое начертили мы вокруг Стивенсона с самого начала. Нет, было и это практическое творчество, точнее мифотворчество. Когда, с какими целями и какие дало результаты — вот вопрос.
«Искать вдохновения» — так говорили в старину. Существовал и противоположный взгляд: «Вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта». Но всегда от природы были творческие натуры, нуждающиеся в таком поиске, в эксперименте над собой, над реальностью, когда писатель не живет, а, несколько актерствуя, как бы играет в жизнь; намеренно испытывая различные состояния, режиссирует он сценарий собственной жизни и, чтобы чего не забыть, составляет отчет своих переживаний. Ведь запас жизни, в человеке умещающийся, рано или поздно оскудевает, исчерпывается и требует пополнения. «Помните, если не писал, разбоем занимался Франсуа Вийон…»
Сначала все было романтически: легенда о Стивенсоне, сага его жизни возникла как естественное дополнение к его книгам, как продолжение книг. Читателям Стивенсона, конечно, хотелось узнать: а на самом деле как это было? И когда в подтверждение прочитанного узнавали, что все так и есть, что сам автор, в сущности, один из его собственных героев, это только усиливало действие книг. Со временем личность писателя и все с ним происходившее стало увлекать не меньше, чем книги. Путешествия в Океании, жизнь на островах — за этим следили, как за умело построенным сюжетом. Что он еще совершит? А что после этого он напишет?!
«Никто из писателей со времен Байрона так не привлекал читающую публику своим образом жизни», — у Олдингтона приведен этот вкрадчивый упрек Стивенсону от одного из друзей-критиков. Байрон — для смягчения удара, и Олдингтон прав, когда напоминает о разнице, о героической стороне байронизма. Личная легендарность в байроническую пору еще и не входила с обязательностью в «литературную стратегию». Критику хотелось лишь толкнуть мысль Стивенсона в эту сторону — вдуматься в причины такой популярности не книг, а личности автора, и, со своей стороны, критик намекал, что это ведь может быть и признаком кризиса.
И действительно, как раз в ту пору, когда был расцвет стивенсоновской легенды, еще прижизненной, Оскар Уайльд отметил: «Новая книга Стивенсона далеко не так хороша, как того хотелось бы…» «Живи Стивенсон на улице Гоуэр, — рассуждал Уайльд, — он создал бы нечто подобное «Трем мушкетерам», а на островах Тихого океана писал он письма о немцах в «Таймс»…» Кто бывал в Лондоне, тот, возможно, видел, что за угрюмая кирпичная кишка эта Гоуэр-стрит, то есть, по логике Уайльда, либо мечта, либо действительность — творить на бумаге или же в самой жизни. «Для романтического писателя нет обстановки хуже романтической» — так считал Уайльд. Сотворив вокруг себя на самом деле свой приключенческий мир, Стивенсон, по его мнению, уничтожил мечту об этом мире, мечту, порождающую книги. Но, проще говоря, некая деятельность писателя вокруг собственного имени вытеснила в нем писателя как такового. Нет, не вытеснила, скорее — заменила. «О какой замене или вытеснении вы говорите?! А «Катриона», «Потерпевшие кораблекрушение» и пр.? У Олдингтона же сказано о значительной производительности Стивенсона на Самоа. Уточним меру. Не обязательно во всем с Уайльдом соглашаться, существенно лишь, что неудачная книга Стивенсона попала ему в руки как раз тогда, когда все ждали от Стивенсона совсем другой книги, и Оскар Уайльд, сам писатель, точно уловил, в чем тут причина неудачи. О. прочем говорить пока не будем. На остров? Тихого океана Стивенсона привели разные причины, и прежде всего одна, от него не зависевшая, — болезнь. Однако заметим что в Швейцарию он тоже ездил лечиться и писал там, однако публичной повести он из этого не делал. На Самоа это стало одним из условий и средств его работы. Все уже знали: «Стивенсон на Самоа!» И если достойной книги не получалось, ее заменяла легенда о Стивенсоне.