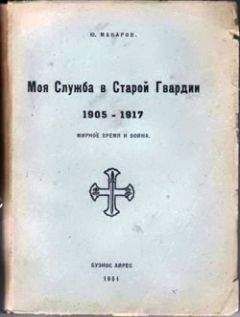Наши торопливо строятся.
— Куда идем?
— На телефонную станцию.
Опять грузовик. Опять — плечо к плечу. Впереди — наш разведывательный «форд», позади — небольшой автомобиль с пулеметом.
Охотный. Влево — пустая Тверская. Но мы знаем, что все дома и крыши заняты большевиками. Вправо, в воротах, за углами — жмутся юнкера, по два, по три — наши передовые дозоры.
На Театральной площади, из «Метрополя» юнкера кричат:
— Ни пуха ни пера! Едем дальше.
Вот и Лубянская площадь. На углу сгружаемся, рассыпаемся в цепь и начинаем продвигаться по направлению к Мясницкой. Противника не видно. Но, невидимый, он обстреливает нас с крыш, из чердачных окон и черт знает еще откуда. Сухо и гадко хлопают пули по штукатурке и камню. Один падает. Другой, согнувшись, бежит за угол к автомобилям. На фланге трещит наш «максим», обстреливающий вход на Мясницкую.
Стрельба тише… Стихает.
До нас, верно, здесь была жестокая стычка. За углом Мясницкой, на спине, с разбитой головой — тело прапорщика. Под головой — невысохшая лужа черной крови. Немного поодаль, ничком, уткнувшись лицом в мостовую, — солдат. Часть офицеров идет к телефонной станции, сворачивая в Милютинский переулок (там отсиживаются юнкера), я с остальными продвигаюсь по Мясницкой. Устанавливаем пулемет. Мы знаем, что в почтамте засели солдаты 56–го полка (мой полк). У почтамта чернеет толпа.
— Разойтись! Стрелять будем!
— Мы мирные! Не стреляйте!
— Мирным нужно по домам сидеть!
Но верно, действительно мирные — винтовок не видно. Долго чего‑то ждем. У меня после двух бессонных ночей глаза слипаются. Сажусь на приступенке у дверей какого‑то банка и мгновенно засыпаю. Кто‑то осторожно теребит за плечо. Открываю глаза — передо мною бородатое лицо швейцара.
— Господин офицер, не погнушайтесь зайти к нам чайку откушать. Видно, умаялись. Чаек‑то подкрепит.
Благодарю бородача и захожу с ним в банк. Забегая вперед, ведет меня в свою комнату. Крошечная каморка вся увешана картинами. В центре — портрет Государя с Наследником.
Суетливая сухонькая женщина, верно жена, приносит сияющий, пузатый самовар.
— Милости просим, пожалуйста, садитесь. Господи, и лица‑то на вас нет! Должно, страсть как замаялись. Вот вам стаканчик. Сахару, не взыщите, мало. И хлеба, простите, нет. Вот баранки. Баранок‑то, слава Богу, закупили, жена догадалась, и жуем понемногу.
Жена швейцара молчит — лишь сокрушенно вздыхает, подперев щеку ладонью.
Обжигаясь, залпом выпиваю чай. Благодарю, прощаюсь. Швейцариха сует мне вязанку баранок:
— Своих товарищей угостите. Если время есть — пусть зайдут к нам обогреться, отдохнуть да чаю попить.
Прижимаясь к домам и поминутно оглядываясь, крадется барышня.
— Скажите, пожалуйста, — мне можно пройти в Милютинский переулок? Я телефонистка и иду на смену.
— Не только можно — должно! Нам необходимо, чтобы телефон работал.
Барышня делает несколько шагов, но вдруг останавливается, дико вскрикивает и, припав к стене, громко плачет. Увидела тело прапорщика.
Подхватываем ее под руки и ведем, задыхающуюся от слез, на станцию.
Дорога обратно. У Большого театра — кучка народа, просто любопытствующие. При нашем проезде кричат нам что‑то, машут платками, шапками.
Свои.
Останавливает юнкерский пост.
— Берегитесь Тверской! Оба угловых дома — Национальной гостиницы и Городского самоуправления — заняты красногвардейцами. Не дают ни пройти, ни проехать. Всех берут под перекрестный огонь.
— Ничего. Авось да небось — проедем!
Впереди несется «форд». Провожаем его глазами. Проскочил. Ни одного выстрела. Пополз и наш грузовик. Равняемся с Тверской.
И вдруг… Tax, тах, та–та–тах! Справа, слева, сверху… По противоположной стене защелкали пули. Сжатые в грузовике, мы не можем даже отвечать.
Моховая. Университет. Мы в безопасности.
— Кто ранен? — спрашивает капитан. Оглядываем друг друга. Все целы.
— Наше счастье, что они такие стрелки, — цедит сквозь зубы капитан.
Но с нашим пулеметным автомобилем дело хуже. Его подстрелили. Те пять офицеров, что в нем сидели, выпрыгнув и укрывшись за автомобиль, отстреливаются. Нужно идти выручать. Тянемся гуськом вдоль домов. Обстреливаем окна Национальной гостиницы. Там попрятались и умолкли. Бросив автомобиль, возвращаемся с пулеметом и двумя ранеными пулеметчиками.
Наконец‑то появился командующий войсками, полковник Рябцев.
В небольшой комнате Александровского училища, окруженный тесным кольцом возбужденных офицеров, сидит грузный полковник в расстегнутой шинели. Верно, и раздеться ему не дали, обступили. Лицо бледное, опухшее, как от бессонной ночи. Небольшая борода, усы вниз. Весь он рыхлый и лицо рыхлое — немного бабье.
Вопросы сыплются один за другим и один другого резче.
— Позвольте узнать, господин полковник, как назвать поведение командующего, который в эту страшную для Москвы минуту скрывается от своих подчиненных и бросает на произвол судьбы весь округ?
Рябцев отвечает спокойно, даже как будто бы сонно:
— Командующий ни от кого не скрывался. Я не сплю не помню которую ночь. Я все время на ногах. Ничего нет удивительного, что меня не застают в моем кабинете. Необходимость самому непосредственно следить за происходящим вынуждает меня постоянно находиться в движении.
— Чрезвычайно любопытное поведение. Наблюдать — дело хорошее. Разрешите все же узнать, господин полковник, что нам, вашим подчиненным, делать? Или тоже наблюдать прикажете?
— Если мне вопросы будут задаваться в подобном тоне, я отвечать не буду, — говорит все так же сонно Рябцев.
— В каком тоне прикажете с вами говорить, господин полковник, после сдачи Кремля с арсеналом большевикам?
Чувствую, как бешено натянута струна — вот–вот оборвется. Десятки горящих глаз впились в полковника. Он сидит, опустив глаза, с лицом словно маска — ни одна черта не дрогнет.
— Я сдал Кремль, ибо считал нужным его сдать. Вы хотите знать почему? Потому что всякое сопротивление полагаю бесполезным кровопролитием. С нашими силами, пожалуй, можно было бы разбить большевиков. Но нашу кровавую победу мы праздновали бы очень недолго. Через несколько дней нас все равно смели бы. Теперь об этом говорить поздно. Помимо меня — кровь уже льется.
— А не полагаете ли вы, господин полковник, что в некоторых случаях долг нам предписывает скорее принять смерть, чем подчиниться бесчестному врагу? — раздается все тот же сдавленный гневом голос.
— Вы движимы чувством — я руководствуюсь рассудком. Мгновение тишины, которая прерывается исступленным криком офицера с исказившимся от бешенства лицом: