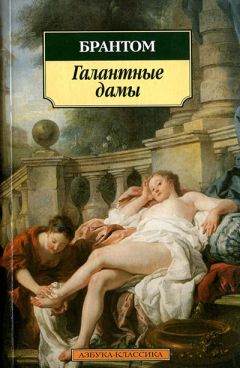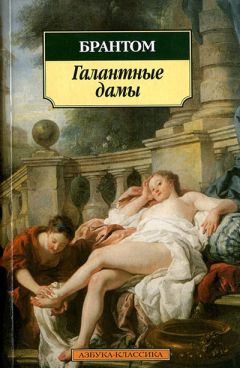На своем веку я повидал немало прелестниц такого склада; они желали прежде всего веселого препровождения времени и старались получать от жизни одни удовольствия, не склоняя слух к суждениям света. Добрый воин, если их послушать, хорош на поле брани, но с ним нечего делать на ложе утех; и здоровенный, оборотистый в постельных делах лакей стоит приметного и храброго, но усталого от ран и недугов дворянина.
Сужу об этом по словам весьма искушенных особ; да и впрямь чресла воина знатного рода — пускай он и смел, и весьма обходителен с нежными созданиями — слишком избиты и истерзаны его доспехами, что не способствует дородности, как у тех, кого миновали тяготы и невзгоды.
Встречаются и дамы, почитающие за благо иметь мужем или возлюбленным храбреца, потому что он лучше других может охранить их достоинство и чистоту и дать отпор всякому злоречивому наглецу. Такое нередко случается и при дворе; мне была знакома одна прелестная высокородная дама (об имени ее умолчу), ставшая жертвой многих наветов и потому отставившая друга (любезного ее сердцу, но вялого духом и нескорого на расправу с обидчиками) и остановившая свой взор на другом, отчаянном рубаке, так сумевшем отплатить не в меру говорливым, что с той поры никто не осмеливался затронуть ее честь.
Немало славных жен, известных мне, имели подобные же пристрастия и всегда желали, чтобы их сопровождал и охранял какой-нибудь смельчак, что часто оказывалось весьма полезным; однако им, коль скоро они очутились в его власти, нельзя оступаться и переменивать свою привязанность: стоит такому защитнику заметить непостоянство дамы, как он выходит из себя и готов жестоко проучить и ее, и ее дружков — я в своей жизни повидал немало тому примеров.
Вот почему те мудрые женщины, что желают обзавестись храбрецами и забияками, должны сами вести себя с ними решительно и хранить постоянство либо проделывать все в такой тайне, чтобы их увлечения не выходили наружу. Или же им следует заблаговременно предупреждать любые недоразумения — подобно придворным дамам Италии и Рима, которые предпочитают всегда иметь при себе доблестного защитника («удальца», как они его называют), но ставят условие, что у него могут быть соперники и он не имеет права возмутиться.
Но то, что любо придворным жеманницам Рима и их храбрым защитникам, не годится для благородных сеньоров Франции и иных мест. Однако если высокорожденная дама желает держать себя в строгости и верности, она вправе требовать от своего избранника не щадить жизни, чтобы охранять ее благополучие и спокойствие — если им что-либо угрожает, — беречь ее честь и доброе имя. При нашем дворе я видывал многих, кому легко было заставить умолкнуть злые языки, стоило только разнестись молве, что они покровительствуют даме; ведь и по закону, и по обычаям света мы все должны быть опорой нежному полу, подобно храброму Ринальдо, служившему в Шотландии прекрасной Джиневре; и сеньору Мендосе, влюбленному в знатную герцогиню, о которой я уже упоминал; а также господину де Каружу, что сумел оградить от невзгод свою собственную жену, как повествуется в хрониках о временах короля Карла VI. Я мог бы привести еще тысячи подобных случаев из новейшего времени и древности — однако воздержусь.
Ведомы мне были также дамы, покинувшие малодушных, хотя и весьма богатых поклонников, полюбив и избрав себе в мужья благородных господ, чье достояние, если можно так сказать, — лишь плащ да шпага. Но их избранники, благодаря своим достоинствам и смелости, еще имели случай добиться высокого положения и богатства, хотя никто не может быть твердо уверен, что последние достаются прежде всего таким; очень часто трусы и ничтожества достигают этого легче; однако, преуспев, они выглядят такими же жалкими — чего не скажешь о мужественных и великодушных господах.
Я не управлюсь вовек, если примусь перечислять причины и резоны, подвигающие дам любить преисполненных доблести мужей. Знаю: если попытаться дополнить сказанное бесконечным числом доводов и историй, получится целая книга. Но мне не хочется так сокращать свой досуг, не переходя от одной мысли к другой; потому удовлетворюсь уже написанным — пусть другие продолжат за меня, говоря: «А вот этого он не вспомнил и о том позабыл…» — но приведенное здесь достаточно полно (хоть его и можно украсить еще многими случаями и примерами). Таковых мне ведомо сколько угодно; причем о делах, мало кому известных или покрытых тайной, — но я не желаю о них распространяться.
Вот почему я умолкаю. Но прежде чем сделать передышку, хочу походя заметить еще одно: точно так, как достославные особы обожают мужественных в битве, они любят смелых и предприимчивых в любовных схватках; вот отчего кавалер застенчивый и сверх меры почтительный не преуспеет у них — и не в том секрет, что дам прельщают чванные и самоуверенные, тщеславные и дерзкие: ведь такой способен унизить свою милую подругу. Отнюдь, женщины предпочитают некую отважную скромность в чувствах или же скромную отвагу — ибо сами они (если не волчицы от природы) не позволяют себе многого, не станут требовать невозможного и натравливать вас на ближнего; но умеют так, словно бы невзначай, будить чужую алчбу и зависть, так мило и нежно вовлекают своих поклонников в дерзкие предприятия и стычки, что это для нас истинное испытание: тот, кто не знает удержу и добивается своего, не помышляя о величии, о щепетильности, угрызениях совести, страхе Божьего суда или чем-либо подобном, воистину не умен, бессердечен и заслуживает, чтобы фортуна отвернулась от него.
Мне знакомы два достойных дворянина, каковым две добропорядочные парижанки — притом отнюдь не низкого происхождения — предложили однажды в Париже прогуляться по саду; там они, разделившись на пары, избрали — каждая дама со своим спутником — по укромной аллее, столь увитой роскошными виноградными лозами на шпалерах, что дневной свет туда почти не проникал и царила приятная прохлада. Один из кавалеров был по натуре предприимчив и понимал, что его собеседница не создана для прогулок на свежем воздухе, а сейчас горит в огне желания (притом жаждет отнюдь не мускатных ягод на шпалерах); и вот, разжигая пламень жаркими, страстными и безумными словесами, он не терял даром столь удобного случая, а подхватил, без особого почтения, свою спутницу, уложил ее на гряду из свежего зеленого дерна — и испытал сладчайшее удовлетворение, слыша от нее только: «О боже! Что вы делаете? Ну разве вы не самый безумный и странный человек на свете? А если кто-нибудь заглянет сюда, что о нас подумают? Бог мой, да отпустите же меня!» Но наш дворянин не удивлялся ее словам, а продолжал свое дело, и все вышло чудесно и ко взаимному удовольствию, так что, сделав еще два или три круга по аллее, они начали все снова. Затем, выйдя на открытое место, эти двое увидели вторую пару, прогуливавшуюся точно так, как они их оставили. При сем зрелище вполне довольная молодая особа заметила своему спутнику, тоже отнюдь не удрученному: «Думаю, что этот глупец не предложил своей даме ничего, кроме разговоров, умных суждений и прогулки». Когда все четверо собрались вместе, прелестницы спросили друг дружку, хорошо ли было. Удоволенная ответила, что превосходно — так хорошо, что лучше и быть не может. Другая же злобно заметила, что связалась с самым закоренелым дуралеем и заячьей душонкой, после чего оба дворянина могли слышать, как их спутницы, отойдя от них, со смехом восклицают: «О, глупец! О, трус! О, господин Почтительный!» На что осчастливленный сказал своему пристыженному другу: «Смотрите, эти сударыни костят вас — и пребольно, — находя, что вы слишком застенчивы и непроворны». Второй признался в правоте таких слов, но делать было нечего: благоприятный миг канул, и нового не представлялось. Однако же, поняв свою оплошность, он спустя некоторое время наверстал упущенное, найдя иную тропку к ее сердцу, — о чем скажу в другом месте.